В. С. Рамачандран «Мозг рассказывает»
комментарии
Эта книга - самое последнее на 2013г. обобщение современных взглядов нейрофизиологов (специально выделил эту касту) о психических явлениях. Это позволяет отслеживать текущее состояние понимания, а я этим занимаюсь постоянно. В данном случае, никаких качественно новых концепций не обнаружилось (хотя попытки выдать за это есть), все остается примерно на прежнем уровне понимания нейрофизиологами. Как это бывало во всех, без исключения, случаях написания популярной книги специалистом по нейрофизиологии, все, что касается непосредственных фактических данных исследований - ценно в качестве сведений для сопоставлений и обобщений, а все, что является попыткой этих довольно узких по специфике специалистов домыслить и самим обобщить данные, требует особого скептицизма и внимательности потому, что для такого обобщения, для целостного понимания и описания мехнизмов психики (а не отдельных механизмов нейрофизиологических процессов) узкой специфики недостаточно, что и оказывается предметом критических замечаний. Именно в таком контексте предлагается рассмотреть утверждения книги В.Рамачандрана.
Это не означает, что все рассуждения у автора неверны. Он довольно часто адекватно описывает предполагаемые механизмы психики, что основывается на его огромном экспериментальном опыте и соответствующих сопоставлениях. Но задачу книги автор сформулировал так: "Это книга о том, что делает людей особенными и постоянно повторяющаяся в ней тема — что наши уникальные психические свойства, возможно, развились из ранее существовавших структур мозга.". Так что утверждение об принципиальной особенности психических явлений человека по сравнению с другими животными будет подвергаться особой критике, а в качестве аналогии предлагаю утверждение, что кошки обладают безусловной уникальностью психики (а так же собаки, шимпанзе, лошади и другие попугаи).
Далее будет представлены некоторые фрагменты книги с комментариями фиолетовым цветом в ключевых местах понимания. Для того, чтобы сохранить контекст при условии соблюдении закона об авторском праве, это будут достаточно цельные фрагменты.
ВЕДЕНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК ОБЕЗЬЯНОЙ ИЛИ АНГЕЛОМ (как сформулировал этот вопрос Бенджамин Дизраэли в знаменитом споре о теории эволюции Дарвина)? Являемся ли мы просто шимпанзе с усовершенствованным программным обеспечением? Или мы в некотором смысле поистине особенный вид, уникальность которого выходит за рамки неосознаваемых химии и инстинктов? Многие ученые, начиная с самого Дарвина, доказывали первую из этих версий — умственные способности человека являются просто развитием способностей совершенно того же порядка, что и у других обезьян. Это было радикальным и спорным предположением для XIX века — некоторые до сих пор с ним не согласны, — но с тех пор, как Дарвин опубликовал свой потрясший мир труд о теории эволюции, доказательства в пользу происхождения человека от приматов увеличились в тысячекратном размере. Сегодня невозможно со всей серьезностью отвергать это. С точки зрения анатомии, неврологии, генетики, физиологии мы — обезьяны. Всякий, кто когда-либо поражался странной схожестью с человеческим поведением поведения больших приматов в зоопарке, не может не почувствовать правдивость этого утверждения.
Мне всегда казалось странным, отчего некоторые люди столь пылко привязаны к полярному мышлению в духе «или — или». «Обладают ли обезьяны самосознанием или они действуют автоматически?» «Есть ли в жизни смысл или она бессмысленна?» «Являются ли люди «всего лишь» животными, или они более благородны?» Как ученый, я вполне довольствуюсь вынесением категорических суждений — когда в этом есть смысл. Но что касается этих, как полагают, неотложных метафизических дилемм, должен сознаться, я не вижу в них противоречий. Например, почему мы не можем быть ветвью царства животных и в то же время — уникальным и восхитительно оригинальным феноменом Вселенной?
Кроме того, мне кажется странным, что так часто бросаются фразами «всего лишь», «ничего кроме» и им подобными в спорах о нашем происхождении. Люди — приматы. Значит, мы также млекопитающие. Мы позвоночные. Мы — мясистые, пульсирующие колонии десятков триллионов клеток. Мы являемся всем этим, но не являемся «всего лишь» этим. Мы, в дополнение ко всему этому, являемся чем-то уникальным, чем-то небывалым, чем-то выходящим за рамки. Мы действительно нечто совершенно новое под солнцем, с неведомым и, возможно, неограниченным потенциалом. Мы первый и единственный вид, чья судьба всецело в его руках, а не только в руках химии и инстинктов. На великой дарвиновской сцене, которую мы называем Землей, как я посмел бы утверждать, не было столь великого переворота, как возникновение человека, со времен зарождения собственно жизни. Когда я думаю о том, кто мы и чего еще можем достичь, я не вижу места для маленьких фальшивых выражений вроде «всего лишь».
Любая обезьяна может достать банан, но только люди могут достичь звезд. Вот такими упрощенными но патетическими суждениями переполнена книга. Они принципиально некорректы и многозначительны (предполагает самое различное понимание), но на их основе, подчас, строится некое утверждение... В данном конкретном случае любое живое существо может (не)достичь звезд (а люди их не достигли) если их туда привезти, ведь и пассажиры самого современного лайнера ничего не понимают в его устройстве и просто - пассажиры. Нет никакого обоснования того, что только люди могут достичь (какие из людей? учитывая, что большинство - не изобретательнее обезьян). Человек пока что не может достичь звезд и неизвестно, сможет ли, а кто его знает, может быть именно особенности обезъяны привлекут внимание некоего звездного перевозчика. Можно сделать реестр и того, что может делать обезьяна, но не может человек: ловко висеть на хвосте, например, что в каких-то ситуациях даст ей решающее преимущество. А можно привлечь еще и бактерии, во многоим имеющие преимущество перед человеком в плане быстрой адаптивности. Вопрос достаточно спорный в плане того, что лучше для адаптивности, чтобы не использоваться в качестве обоснования... Обезьяны живут, соперничают, размножаются и умирают в лесах — вот и весь сказ что можно сказать и о большинстве людей, у которых точно так же нет никаких мотиваций и потенций для научных исследований. На что способны отдельные мотивированные особи обезьян все больше начинают понимать наблюдатели. Мы же проникаем прямо в сердце Большого взрыва и глубоко вгрызаемся в значение числа пи. И что, возможно, примечательнее всего — мы всматриваемся в глубь себя, собирая мозаику нашего уникального и чудесного мозга. И это сводит с ума. Как может полуторакилограммовая студенистая масса, которая легко уместится в ладонях, постигать ангелов, размышлять о значении бесконечности и даже задаваться вопросом о своем месте в мироздании? Особый трепет вызывает факт, что каждый мозг, и ваш тоже, создан из атомов, которые родились в недрах бесчисленных, раскинутых повсюду звезд миллиарды лет назад. Эти частицы путешествовали в пространстве в течение целых эпох и световых лет, пока сила тяжести и случай не свели их здесь и сейчас. Теперь эти атомы представляют собой конгломерат — ваш мозг, — который не только размышляет о тех самых звездах, которые дали ему жизнь, но также о своей способности размышлять и удивляться своей способности удивляться. С пришествием человека, как уже было сказано, вселенная внезапно приобрела самосознание это - очень смелое и нисколько не обоснованное утверждение, что вот так внезапно не было самосознания у особей с высокими возможностями личной адаптации поведения и вот, раз! оно возникло. Нейрофизиолог должен был бы понимать, что никакие настолько сложные механизмы не возникают внезапно, что у любых психических механизмов есть вполне различимые и давно уже различаемые основы организации нейросети [104] см. Эволюция механизмов сознания. Безусловно, это величайшая изо всех загадок.
Невозможно говорить о мозге, не возвышаясь до лирики которая всегда уводит от понимания сути и лучше бы ее не привлекать даже если очень хочется. Но как перейти к собственно его изучению? Существует много методов, начиная с изучения отдельных нейронов и высокотехнологичного сканирования мозга и заканчивая межвидовым сравнением. Методы, которые мне по душе, непростительно старомодны. Обычно я рассматриваю пациентов, у которых поврежден мозг из-за инсультов, опухолей или травм головы, в результате чего возникают проблемы в восприятии и сознании. Также я иногда сталкиваюсь с людьми, у которых на первый взгляд нет повреждений или отклонений в мозге, но которые говорят о своих весьма необычных психических опытах и восприятии. В любом случае процедура остается неизменной: я опрашиваю их, наблюдаю за их поведением, провожу несколько простых тестов, если возможно, осматриваю их мозг и затем выдвигаю гипотезу, которая соединяет психологию и неврологию, другими словами, гипотезу, которая связывает странности поведения с нарушениями в сложной системе мозга1. Уже довольно долгое время я делаю это с большим успехом. И так — пациент за пациентом, один случай за другим — я делаю целый ряд новых догадок относительно того, как работает мозг и разум человека и как неразрывно они связаны. С помощью моего метода мне также часто удается делать догадки относительно эволюции и приближаться к пониманию того, что делает наш вид уникальным. К сожалению, это - иллюзия верности догадок, это далеко от жестких критериев корректности формализций и принципов научной методологии, что делает всю обобщающую часть изложенного во многом порочной, и в таких местах стоит быть внимательным, разумно скептичным и, принимая важное к сведению, не принимать на веру. Какое конкретно качество уникальности имеется в виду, не раскрывается никак, наверное потому, что: "Безусловно, это величайшая изо всех загадок".
Вот небольшая подборка материалов, дающая возможность усомниться в уникальности человеческого вида, большей, чем уникальность особей одного вида:
Животные узнают себя в зеркале
Крысы оценивают свою уверенность в принятии решений
Осознание себя у шимпанзе
Искусства и ремесла у животных Купэн Г. .
И то, что касается "уникальности самосознания":
Всё изменилось в 1970 году, когда американский учёный Гордон Гэллоп Младший () провёл простой эксперимент, суть которого заключалась в том, что нескольким , усыплённым наркозом, наносили краской небольшие пятнышки на одну из бровей и на противоположное ухо. Животные, проснувшись, прикасались к окрашенным участкам тела не чаще, чем к остальным, то есть не ощущали никаких последствий этой операции. Однако оказалось, что, увидев себя в зеркале, эти шимпанзе вдруг начинали активно ощупывать окрашенные места. Таким образом, удалось доказать, что шимпанзе понимали, что видят в зеркале себя, помнили, как они выглядели раньше, и осознавали, что в их облике произошли изменения. Как говорится, всё гениальное просто. Этот несложный тест смог наглядно подтвердить наличие самосознания у шимпанзе.
В 1970 году американский учёный Гордон Гэллоп Младший (Gordon G. Gallup, Jr.) при помощи простого зеркала положил конец бесчисленным и ожесточённым дискуссиям среди ученых умов. Суть эксперимента с зеркалом заключалась в том, что нескольким шимпанзе, усыплённым наркозом, наносили краской небольшие пятнышки на одну из бровей и на противоположное ухо. Животные, проснувшись, прикасались к окрашенным участкам тела не чаще, чем к остальным, то есть не ощущали никаких последствий. Однако, увидев себя в зеркале, шимпанзе вдруг начинали активно ощупывать окрашенные места. Таким образом, удалось доказать, что приматы понимали, что видят в зеркале себя, помнили, как они выглядели раньше, и осознавали, что в их облике произошли изменения. Подобные эксперименты с зеркалом на человеческих младенцах показали, что люди начинают осознавать себя лишь к возрасту 1,5-2 лет. Шимпанзе, орангутаны и гориллы узнают себя в зеркале в относительно зрелом возрасте (старше 4 лет). В настоящее время ученым известно пять видов животных, способных осознавать себя при помощи зеркала, – это шимпанзе, орангутаны, гориллы, дельфины и слоны. Тот факт, что самосознание независимо возникло у таких далёких от людей видов, как слоны и дельфины, свидетельствует о конвергенции эволюции.
- детализованнее.
Попробуйте покуситься на то, что собака считает своим (миска, подстилка, будка, территория, косточка – не важно), и острые ощущения вам гарантированы. У них очень сложный этикет, связанный с собственностью. Метят свою территорию. Очень интересуются пометками, оставленными другими собаками. Охраняют своё имущество. И не только то своё, которое «моё», но и то своё, которое «наше». И этим мы, люди, научились весьма ловко пользоваться.
Может ли существовать чёткое чувство «Моё!» без чёткого чувства «Я»? Может ли существовать «наше» без «мы»? Не может. Потому что «моё» – это предикат, связывающий предмет собственности с моим «я» весьма специфической связью. Не хочу сейчас рассуждать о специфике этой связи, сейчас важно лишь то, что «моё» – это связка, которая может существовать только тогда, когда у неё есть две стороны. Не существует предмета собственности – нет самой собственности. Не существует субъекта собственности (то есть того самого «Я») – ни о какой собственности тоже не может идти речь. Поскольку существуют предметы, которые собаки считают своими, значит они с помощью предиката «моё» связывают эти предметы… с чем? А с тем, что единственное может быть «ответной частью» этого предиката – своим собственным «Я».
Рассмотрим следующие примеры.
• Всякий раз, когда Сьюзен смотрит на цифры, она видит, как каждая цифра окрашивается присущим только ей цветом. Например, цифра 5 — красная, а 3 — синяя. Это состояние, называемое синестезией, в человеческой популяции встречается в восемь раз чаще среди художников, поэтов и писателей, так не связана ли синестезия неким таинственным образом с творческой способностью? Может ли синестезия быть чем-то вроде нейропсихологического ископаемого — ключом к пониманию эволюционного развития и природы человеческой способности к творчеству вообще?
• Вследствие ампутации у Хэмфри появилась фантомная рука. Фантомные конечности — распространенное явление у ампутантов, но в случае Хэмфри мы замечаем кое-что необычное. Представьте его удивление, когда он просто наблюдает за тем, как я стучу и укалываю руку студентки-волонтера — и испытывает те же тактильные ощущения в своей руке-фантоме. Когда он видит, как студентка поглаживает кубик льда, он ощущает холод в фантомных пальцах. Когда он видит, как она массирует свою руку, он ощущает «фантомный массаж», который снимает болевые спазмы в его фантомной руке! Где в его сознании соединяются его тело, его фантомное тело и тело другого человека? Чем является его действительное чувство себя и где оно располагается?
• Пациент по фамилии Смит подвергается нейрохирургической операции в университете Торонто. Он в полном сознании и бодрствует. Кожу его головы обработали местным наркозом, череп вскрыли. Хирург помещает электрод в переднюю поясную кору мозга Смита, отдел возле передней части мозга, где многие нейроны отвечают за болевые ощущения. Теперь врач может найти нейрон, который активизируется, когда руку Смита укалывают иглой. Но хирург поражен тем, что он видит: тот же самый нейрон вспыхивает столь же сильно в тот момент, когда Смит просто наблюдает за тем, как укалывают руку другого пациента. Как будто нейрон (или функциональная сеть, частью которой он является) сочувствует другому человеку. Боль другого человека становится болью Смита, почти буквально. Индуистские и буддийские мистики утверждают, что нет существенной разницы между «собой» и «другим» и истинное просветление приходит вместе с состраданием, которое разрушает эту границу. Я привык считать это благонамеренной бессмыслицей, но вот перед нами нейрон, который не знает разницы между «собой» и «другим». Неужели технически наш мозг уникальным образом настроен на эмпатию и сострадание?
• Когда Джонатана просят представить числа, он всегда видит каждое число в особом пространственном положении перед собой. Все числа от 1 до 60 последовательно лежат на воображаемой числовой линии, которая причудливым образом изгибается в трехмерном пространстве и переплетается сама с собой. Джонатан даже утверждает, что эта изгибающаяся линия помогает ему делать арифметические вычисления (интересно, что Эйнштейн часто утверждал, будто видит числа в пространстве). Что говорят нам случаи, подобные случаю Джонатана, о нашей уникальной способности иметь дело с числами? У большинства из нас есть склонность представлять числа слева направо, но почему у Джонатана все не так, почему они переплетены? Как мы увидим, это поразительный пример неврологической аномалии, которая имеет смысл только в терминах эволюции.
• У пациента из Сан-Франциско прогрессирующая деменция, но он начинает писать картины, которые поразительно прекрасны. Неужели повреждение его мозга открыло спрятанный талант? На другом конце мира, в Австралии, обычный студент-волонтер по имени Джон принимает участие в необычном эксперименте. Он садится в кресло, а на его голову
надевают шлем, который генерирует магнитные импульсы и направляет их в его мозг. Некоторые мышцы его головы непроизвольно подрагивают от наведенного тока. Что более удивительно, Джон начинает делать чудесные рисунки, чего, как он утверждает, раньше делать не мог. Откуда же всплывают эти внутренние художники? Верно ли, что большинство из нас «задействуют лишь 10 процентов нашего мозга»? Может быть, в нас глубоко запрятаны Пикассо, Моцарт и Сриниваса Рамануджан (одаренный математик) и ждут того, чтобы вырваться на свободу? Существует ли причина, по которой эволюция подавила наши способности?
До инсульта доктор Джексон был выдающимся врачом в Чула-Висте, штат Калифорния. После инсульта у него оказалась парализованной правая сторона тела, но, к счастью, была повреждена лишь небольшая часть коры — того мозгового участка, где расположен высший интеллект. Его умственные способности в основном остались незатронуты. Он понимает большую часть из того, что ему говорят, и может вполне не плохо поддерживать беседу. В ходе проверки его умственных способностей с помощью простых задач и вопросов мы очень удивлены, когда просим его объяснить пословицу «не все то золото, что блестит».
— Это значит, что нечто может и не быть золотом лишь потому, что оно блестящее и желтое, доктор. Это может быть медь или какой-нибудь сплав.
— Верно, — отвечаю я. — Но есть ли помимо этого более глубокий смысл?
— Конечно, — отвечает он, — это значит, что нужно быть очень осторожным, когда покупаешь драгоценности, людей очень часто обманывают. Полагаю, следовало бы замерять специфический вес металла.
У доктора Джексона расстройство, которое я называю «метафорической слепотой». Следует ли из этого, что в человеческом мозге существует особый «метафорический центр» ?
• Джейсон
— пациент реабилитационного центра Сан-
Диего. В течение нескольких месяцев он
пребывал в полукоматозном состоянии, называемом акинетическим мутизмом,
его осмотрел мой коллега, доктор Субраманиам Шрирам. Джейсон прикован к
постели, не способен передвигаться, узнавать людей и общаться с ними, даже со
своими родителями, хотя он в полном сознании и часто следит за людьми глазами.
Однако, если его отец выходит в другую
комнату и звонит ему по телефону, Джейсон тотчас приходит в себя, узнает
своего отца и разговаривает с ним. Когда отец возвращается в комнату, Джейсон
тотчас впадает в свое зомбиподобное состояние. Как будто есть два Джейсона,
заключенные внутри одного тела: один,
связанный со зрением, бодрствует, но не осознает себя, а другой, связанный со слухом, бодрствует и сознает
себя. Что же эти совершенно необъяснимые появления и исчезновения самосознания
могут сказать нам о том, как мозг порождает осознание самого себя?
Все это может звучать как фантасмагорические рассказы в духе Эдгара Аллана По или Филипа Дика. Однако все это произошло на самом деле и является только небольшой частью случаев, которые упомянуты в этой книге. Интенсивное изучение этих людей не только помогает нам понять, почему у них проявляются эти странные симптомы, но также представить себе функционирование нормального мозга — вашего и моего. Может быть, мы когда-нибудь даже ответим на самый трудный вопрос: как человеческий мозг порождает сознание? Что такое или кто такой этот «я» внутри меня, освещающий крошечный уголок вселенной, в то время как весь остальной космос продолжает себе вращаться — безучастно ко всяческим человеческим проблемам? Вопрос, который слишком близко подходит к богословию.
Размышляя о нашей уникальности, вполне естественно задаться вопросом, насколько близко виды, стоящие эволюционно чуть ниже нас, подошли к свойственным нам познавательным способностям. Антропологи обнаружили, что семейное древо гоминидов давало много ответвлений в последние несколько миллионов лет. В разное
время многочисленные виды, предшествующие человеку разумному, и человекообразные виды обезьян процветали и распространялись по земле, но по какой-то причине лишь наша ветвь оказалась успешной. На что был похож мозг других гоминидов? Исчезли ли они по той причине, что не натолкнулись случайно на верную комбинацию адаптации нейронов? Все, с чем нам приходится иметь дело, — смутное свидетельство их останков и случайные каменные орудия. К сожалению, мы можем никогда не получить достаточно информации об их поведении и о том, на что был похож их разум.
..........
В перепалку включился епископ Сэмюэль Уилберфорс, непреклонный креационист, который часто основывался на анатомических наблюдениях Оуэна, чтобы оспорить теорию Дарвина. Битва велась на протяжении двадцати лет, пока, в результате трагического случая, Уилберфорс не разбился насмерть, упав с лошади и ударившись головой о мостовую. Говорят, что Гексли сидел в лондонском Атенеуме, потягивая коньяк, когда до него дошла эта новость. Криво усмехнувшись, он съязвил репортеру: «В конце концов мозг епископа столкнулся с суровой реальностью, и результат оказался фатальным».
Современная биология неопровержимо подтвердила ошибку Оуэна: не существует малого гиппокампа, нет никакого внезапного скачка между нами и приматами. Обычно считается, что утверждения о том, что мы особенные, придерживаются исключительно ревнители-креационисты и религиозные фундаменталисты. Между тем я готов защищать такой радикальный взгляд, в этом отдельном случае Оуэн был в конечном итоге прав, хотя и по причинам совершенно отличным от тех, которые имелись у него. Оуэн был прав, утверждая, что человеческий мозг, в отличие, скажем, от человеческой печени или сердца, действительно уникален и отделен от мозга приматов огромной пропастью. Но этот взгляд вполне совместим с утверждением Дарвина и Гексли, что наш мозг развивался постепенно, без Божественного вмешательства, на протяжении миллионов лет.
Но если это так, удивитесь вы, откуда же тогда взялась наша уникальность? Как утверждали Шекспир и Парменид, задолго до Дарвина, ничто не происходит из ничего.
Весьма распространено ошибочное утверждение, что постепенные, небольшие изменения могут привести только к постепенным, понемногу увеличивающимся результатам. Однако это пример линейного мышления, которое, как кажется, включается по умолчанию, когда мы судим о мире. Может быть, просто потому, что большинство явлений, которые мы наблюдаем, на повседневной человеческой шкале времени и величины и внутри ограниченных пределов наших чувств действительно имеют склонность следовать линейной направленности. Два камня весят вдвое тяжелее, чем один камень. Требуется в три раза больше пищи, чтобы накормить втрое большее количество людей. И так далее. Но вне сферы практических человеческих интересов природа полна нелинейных явлений. Чрезвычайно сложные процессы могут возникать на основе обманчиво простых правил, а небольшие изменения в одном основополагающем факторе сложной системы могут вызвать радикальные, качественные изменения в других зависящих от него факторах.
Представим себе очень простой пример: перед вами кусок льда, и вы последовательно его нагреваете: 20 градусов по Фаренгейту... 21 градус... 22 градуса... Достаточно долго повышение температуры льда еще на один градус не производит никакого интересного эффекта: все, что у вас есть, — это чуть более теплый кусок льда, чем минуту назад. Но затем вы доходите до 32 градусов по Фаренгейту. Как только вы достигаете этой критической температуры, вы наблюдаете резкое, существенное изменение. Кристаллическая структура льда декогерируется, и внезапно молекулы воды начинают смещаться и плавать друг вокруг друга в свободном порядке. Ваша замороженная вода превратилась в жидкую воду благодаря всего одному решающему градусу тепловой энергии. Вот здесь - прокол в понимании термодинаки.. Вовсе не градусы, а количество теплоты, тепловая энергия важны для описания агрегатных переходов, а градусы - лишь внешнее, условно метрическое отражение процесса довольно долгого, а не резкого преобразования кристаллов в воду, когда состояние 0 градусов сохраняется ортносительно долго (пока не растает последний кристалл льда), а не резко сменяется, несмотря на значительные различия прилагаемых количеств теплоты. Так что аналогия не годится... В этой ключевой точке постепенные изменения перестали приводить к постепенным эффектам и породили неожиданное качественное изменение, называемое фазовым переходом.
Природа полна фазовых переходов. Переход от замороженной к жидкой воде — лишь один из них. Переход от жидкого состояния воды к газообразному, пару, — еще один. Но они не ограничены примерами из химии. Они могут происходить, например, в общественных системах при этом никак не дается определение фазовому переходу и оно совершенно безгранично распространяется на все на свете, где миллионы индивидуальных решений или отношений могут взаимодействовать вплоть до быстрой смены всей системы и создания нового баланса. Фазовые переходы назревают во время раздувания спекулятивных финансовых пузырей, крахов фондовых бирж и спонтанных транспортных пробок. В более положительном ключе — именно они были продемонстрированы во время крушения социалистического блока и взрывообразного развития Интернета. В этих рассуждения проскальзывает философствование в стиле мат.диалектики: переходы "качества". Некорректность таких рассуждений - в непонимании условностей описания и в отсуствии граничных условий определений. Отсюда возникает и некорректность, не обоснованность (кроме как философствовваниями) конечных утверждений, пусть даже вначале в виде предположений, но незаметно затем становящихся убеждениями.
Я бы даже предположил, что фазовые переходы применимы к происхождению человека. За миллионы лет они привели к появлению Homo sapiens: естественный отбор продолжал возиться с мозгом наших предков в обычной эволюционной манере, то есть постепенно и мало-помалу. Копеечный прирост коры мозга здесь, пятипроцентное увеличение толщины волокнистого тракта, соединяющего две структуры, там, и так далее на протяжении бесчисленных поколений. Результатом этих незначительных усовершенствований нейронной системы в каждом новом поколении были приматы, немного лучше делающие разные вещи: немного более проворные в использовании палок и камней, немного лучше разбирающиеся в социальной структуре и проворачивающие свои делишки, немного более проницательные в отношении поведения дичи или признаков погоды и времен года, немного лучше запоминающие отдаленное прошлое и видящие его связь с настоящим.
Это - просто удивляющее у многих нейрофизиологов невидение того, что, собственно, образует систему личной адаптивности - осознание, хотя фактических данных исследований для этого вполне достаточно, чтобы не считать соотвествующие изменения "копеечными". Лобные доли, гиппокамп и его роль в переводе внимания на новое-значимое (значимое - развитая система эмоциональных контекстов - очень древнее образование, включающее нейромедиаторную регуляцию), в общем все то, что выделял А. Иваницкий при описании субъективизации.
Затем, где-то сто пятьдесят тысяч лет назад, произошло взрыво-образное развитие определенных ключевых мозговых структур и функций каких это именно, "определенных"?, неожиданные сочетания каких это именно? которых породили в итоге умственные способности, делающие нас особенными в том смысле, о котором я говорю в каком это именно смысле?. Мы прошли через психический фазовый переход ???. Все старые составляющие остались на месте, но начали совместную работу совершенно новыми способами, которые были чем-то большим, нежели сумма отдельных составляющих. Этот переход подарил нам такие особенности, как полноценный человеческий язык а вот зоны вербальной и невербальной коммуникации к сознанию не относятся, это - старые, эволюционно отработанные системы, которые при участии сознании получили новое качество условной абстрактности воображаемых моделей действительности, художественное и религиозное чувства, а также сознание и самосознание самосознание - не есть нечто самостоятельное по отношению к сознанию, хотя психологами это выделяется из-за внешне наблюдаемых признаков. За тридцать тысяч лет (ну или около того) мы научились строить себе укрытия, сшивать шкуры и меха в полноценную одежду, создавать украшения из ракушек и наскальные рисунки, а также вытачивать флейты из костей - ничего принципиально не делаемого другими животными не перечисленно. Наша генетическая эволюция в большей или меньшей степени завершилась вот это - очень серьезный прокол в таком категоричном утверждении, но при этом началась намного — намного! — более быстрая форма эволюции, завязанная уже не на генах, а на культуре. Тут опять размытость смысла предметов и их недоопределенность позволила делать столь многозначительные, спорные выводы об "эволюции".
И какие же именно структурные улучшения мозга были ключевыми для всего этого? Буду счастлив объяснить. Но прежде чем начать, я дам вам краткий обзор анатомии головного мозга, чтобы вы смогли лучше понять ответ.
Краткая экскурсия по вашему мозгу
Человеческий мозг состоит из примерно 100 миллиардов нервных клеток, или нейронов (см. рис. В.1). Нейроны «общаются» друг с другом благодаря нитеобразным волокнам, которые напоминают либо густые ветвистые заросли (дендриты), либо длинные извилистые передаточные кабели (аксоны). Каждый нейрон создает от ста до десяти тысяч связей с другими нейронами. Точки контакта
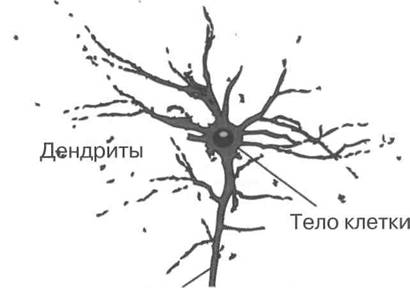
РИС. В.1. Рисунок нейрона, на котором видно тело клетки, дендриты и аксон. Аксон передает информацию (в форме нервных импульсов) следующему нейрону (или ряду нейронов) в цепи. Аксон достаточно длинный, и здесь изображена только его часть. Дендриты получают информацию от аксонов других нейронов. Поток информации, таким образом, всегда идет в одном направлении
между нейронами, называемые синапсами, — это то место, где нейроны делятся между собой информацией. Здесь очень серьезный методологический прокол в использовании слова "информация" опять же без его определения. Нейроны не обмениваются информацией, хотя при описании процессов для нас происходящее информативно. Информация существует только для понимающего значение носителей сведений потому как она - абстракция для обозначения смысла понимаемого - того, что это значит для понимающего. Каждый синапс может быть возбуждающим или тормозящим и в каждый момент времени либо включен, либо выключен прокол: синапсы не имеют таких состояний, они могут быть проводящими или нет для данного типа нейромедиатора. Учитывая все возможные комбинации, число состояний мозга может быть ошеломляюще большим; фактически, оно с легкостью превосходит число элементарных частиц во всей вселенной.
Учитывая эту приводящую в замешательство сложность, совершенно неудивительно, что студенты-медики говорят, будто нейроанатомия идет у них со скрипом. Приходится принимать во внимание почти сто структур, и у большинства из них загадочно звучащие названия. Фимбрия. Форникс. Индузиум гризеум. Локус коэрулеус. Нуклеус моторис диссипатус форматионис Райли. Медулла облогга-та. Должен сказать, что я обожаю, как эти латинские названия скатываются с языка. Ме-ДУЛЛ-а облог-ГА-та! Мое любимое — субстанция инномината, что буквально переводится как «вещество без имени». А самая маленькая мышца в теле, предназначенная для отведения мизинца ноги, — это абдуктор оссис метатарси дижити куинти миними. Полагаю, звучит как поэма. (Поскольку через медицинскую школу сейчас проходит первое поколение Гарри Поттера, возможно, мы наконец услышим, как эти термины произносят с тем удовольствием, которого они заслуживают.)
К счастью, в основе этой поэтической сложности лежит основная схема всего устройства, которую несложно понять. Нейроны соединены в сети, которые могут обрабатывать информацию. В конечном итоге все бесчисленное множество структур мозга — это сети нейронов специального назначения, и они часто обладают очень изящным внутренним устройством. Каждая из этих структур выполняет набор особых, хотя и не всегда легких для понимания познавательных или физиологических функций. Каждая структура образует системные связи с другими структурами мозга, создавая таким образом цепи. Эти цепи передают информацию взад-вперед и по повторяющимся петлям и таким образом позволяют структурам мозга совместно работать над сложными восприятиями, мыслями и поступками.
Обработка информации как внутри, так и между мозговыми структурами может быть весьма сложной, ведь это, в конце концов, обрабатывающая информацию машина, которая и создает человеческий разум, но весьма многое в ней может быть понято и усвоено даже неспециалистом. Мы вернемся ко многим из этих областей и рассмотрим их более глубоко в последующих главах, но сейчас базовое знакомство поможет вам понять, как именно эти специализированные области во время совместной работы определяют разум, индивидуальность и поведение.
Человеческий мозг похож на грецкий орех, разделенный на две зеркально похожие половины (см. рис. В.2). Эти раковинообразные половинки являются мозговой корой. Кора разделена посередине на две полушария, левое и правое. У людей кора столь сильно разрослась, что вынуждена была принять складчатую, извилистую форму, дав мозгу его знаменитую внешность, напоминающую цветную капусту. (А вот у большинства млекопитающих кора ровная и гладкая, в лучшем случае с несколькими извилинами на поверхности.) По
Рис. В.2. Человеческий мозг, вид сверху и слева. Верхний рисунок показывает два зеркально-симметричных полушария, каждое из которых контролирует движения противоположной части тела и получает от нее сигналы (хотя из этого правила есть исключения). Сокращения: ДПК - дорсолатеральная префронтальная кора; ОФК - орбитофронтальная кора; НТД - нижняя теменная долька; О - островок, спрятанный глубоко под Сильвиевой бороздой ниже лобной доли. Вентромедиальная префронтальная кора (ВПК, не обозначено) спрятана во внутренней нижней части лобной доли, и ОФК является ее частью
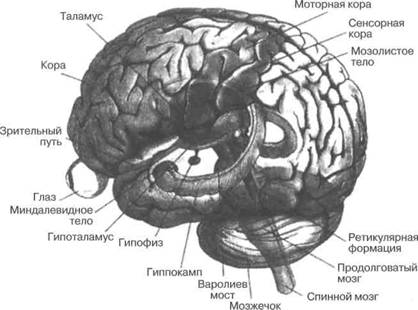
Рис. В.З. Схематичное изображение человеческого мозга, показаны внутренние структуры: миндалевидное тело, гиппокамп, базальные ганглии и гипоталамус
существу дела, кора — месторасположение высшей мыслительной деятельности, та самая tabula rasa (хотя это далеко не так), где осуществляются высшие интеллектуальные функции. Неудивительно, что она особенно хорошо развита у двух видов млекопитающих — дельфинов и приматов. Несколько позже мы еще вернемся к коре. А сейчас посмотрим на другие части мозга.
Сквозь всю сердцевину позвоночного столба проходит толстый пучок нервных волокон — спинной мозг, который обеспечивает постоянный поток сообщений между мозгом и телом. Эти сообщения включают в себя, например, информацию о прикосновениях и боли, приходящую от кожи, и двигательные команды, «стучащие в дверь» к мышцам. В самой верхней части спинной мозг выходит из своей костной оболочки из позвонков, входит в череп и становится толстым и похожим на луковицу (см. рис. В.З). Это утолщение называется стволовой частью мозга и разделяется на три доли: продолговатый мозг, варолиев мост и средний мозг. Продолговатый мозг и ядра (группы нейронов) на основании варолиева моста контролируют важные жизненные функции, такие как дыхание, кровяное давление и температура тела. Кровотечение даже из малейшей артерии, снабжающей этот район, может повлечь за собой немедленную смерть. Как это ни парадоксально, высшие области мозга могут вынести сравнительно обширное повреждение, и пациент при этом останется жив и даже будет находиться в хорошей физической форме. Например, обширная опухоль в лобной доле может вызвать почти незаметные неврологические симптомы.
На верхней стенке варолиева моста располагается мозжечок (лат. cerebellum, буквально «маленький мозг»), контролирующий правильную координацию движений, а также вовлеченный в управление равновесием, походкой и положением тела. Когда двигательная зона коры вашего головного мозга (высшая мозговая область, отдающая сознательные двигательные команды) посылает сигнал мышцам через спинной мозг, копия этого сигнала — нечто вроде электронного письма от управляющего делами — посылается в мозжечок. Мозжечок также получает сенсорный отклик от мышцы и проприорецеп-торов по всему телу. Благодаря этому мозжечок способен определить любые несовпадения, образующиеся между планируемым и реальным действием, и в ответ может внести соответствующие поправки в исходящий двигательный сигнал. Такой вид механизма, управляемого в реальном времени с помощью обратной связи, называется следящей системой управления, или сервоуправляемой системой. Повреждения мозжечка делают систему неустойчивой. Например, пациентка пытается дотронуться до своего носа, чувствует, что рука промахнулась, и пытается компенсировать это движением в противоположную сторону, что заставляет ее руку промахнуться еще больше, только в противоположном направлении. Это называется динамическим дрожанием, или тремором.
Верхнюю часть ствола мозга окружают таламус (зрительный бугор) и базальные ядра. Таламус получает основную входящую информацию от органов чувств и пересылает ее в чувствительную часть коры мозга для более сложной обработки. Зачем нам нужна передаточная станция, пока еще не совсем ясно. Базальные ядра — это имеющая странную форму группа образований, которые имеют отношение к контролю над автоматическими движениями, связанными со сложными сознательными действиями, например, регулирующие положение плеча при броске дротика, или координирующие силу и напряжение во множестве мышц вашего тела во время ходьбы. Повреждение клеток в базальных ядрах проявляется в таких расстройствах, как болезнь Паркинсона, при которой туловище пациента малоподвижно, его лицо представляет собой бесчувственную маску, а сам он ходит характерной шаркающей походкой. (Наш профессор неврологии в медицинском университете обычно диагностировал болезнь Паркинсона, просто прислушиваясь к раздающимся поблизости шагам пациента; если мы не могли проделать то же самое, он нас заваливал. То было время предшествующее эпохе высокотехнологичной медицины и магнитно-резонансной томографии, или МРТ.) Напротив, избыточное количество мозгового химического вещества допамина в базальных ядрах может привести к расстройству, известному как хорея, характеризующемуся неконтролируемыми движениями, имеющими внешнее сходство с танцем.
Наконец мы переходим к коре головного мозга. Каждое полушарие головного мозга подразделяется на четыре доли (см. рис. В.2): затылочную, височную, теменную и лобную. У каждой из этих долей свои определенные сферы функционирования, хотя на практике уровень их взаимодействия очень высок.
Вообще говоря, затылочные доли в основном связаны со зрительными процессами. Фактически они подразделены на целых тридцать особых обрабатывающих областей, каждая из которых специализируется на отдельном аспекте зрения, таком как цвет, движение или форма.
Височные доли
специализируются на высших перцептивных функциях (функциях восприятия), таких
как распознавание лиц и других объектов и связывание их с соответствующими
эмоциями. Последнюю работу они выполняют в тесном сотрудничестве с образованием,
называемым миндалевидным телом, которое располагается в передних полюсах височных долей. Также под каждой височной долей
помещается гиппокамп («морской конек»), который фиксирует новые следы в
памяти. В дополнение ко всему этому верхняя часть левой височной доли содержит
участок коры, известный как область
Вернике. У людей эта область раздута всемеро больше, чем та
же самая область у шимпанзе; это одна из тех немногих
областей мозга,
о которой можно с уверенностью утверждать, что она уникальна для нашего вида несмотря на то, что у шимпанзе и не только она тоже есть?
так в чем уникальность? в раздутии?. Ее назначение не в чем ином, как в понимании
смысла и семантических аспектов языка, то есть функции, различающей с самого
начала человеческие существа и просто обезьян очередной
прокол, во-первых, в том, что придана семантическая функциональность зоне Вернике, и в том, что использовано слово
"смысл" без его определения. Во-вторых, откуда уверенность, что эта
зона у других животных не имеет схожей функциональности, пусть и не настолько
развитой как у людей, что она есть, даже если не обнаруживается анатомически.
Теменные доли главным образом вовлечены в обработку осязательной информации, управление мышцами и обработку собранной воедино информации от всего тела, а также совмещение ее со зрением и слухом, чтобы таким образом все это сопоставить и представить вам богатое «мультимедийное» представление о вашем телесном «я» и окружающем его мире. Повреждение правой теменной доли обычно приводит к явлению, называемому односторонним пространственным игнорированием: пациент теряет осознание левой половины видимого пространства. Еще более примечательна сома-топарафрения, когда пациент настойчиво отрицает, что его собственная левая рука принадлежит ему, и при этом настаивает на том, что она принадлежит кому-то другому. Теменные доли претерпели весьма значительное развитие в ходе эволюции человека, но ни одна их часть не развилась столь сильно, как нижние теменные дольки (НТД, см. рис. В.2). Они столь сильно увеличились в объеме, что в какой-то момент нашего прошлого весьма значительная их часть разделилась на две новых области обработки данных, называемых угловой извилиной и надкраевой извилиной. Эти области, свойственные только человеку, содержат некоторые наиболее характерные для человека способности.
Правая теменная доля вовлечена в создание мыслительной модели пространственной схемы внешнего мира: ваше непосредственное окружение, а также местоположение (но не идентичность) объектов, необычностей и людей внутри них, вместе с тем также и ваше физическое взаимоотношение с каждым из них. Так что благодаря ей вы можете брать предметы, уклоняться от снарядов и избегать препятствий. Правая теменная, в особенности правая верхняя долька (указанная выше как НТД), также ответственна за создание образа вашего тела — то самое изменчивое мысленное представление, которое у вас есть относительно формы вашего тела и его движения в пространстве. Стоит заметить, что, хотя мы и говорим «образ», образ тела — не чисто зрительная конструкция, он также отчасти основан на осязании и на сигналах, поступающих от мышц. То есть как бы то ни было, у слепого тоже имеется образ тела, и очень неплохой. Фактически, если отключить правую угловую извилину с помощью электрода, вы испытаете опыт внетелесного существования.
Теперь рассмотрим левую теменную долю. Левая угловая извилина участвует в весьма важных, уникальных для человека уникальность не подтверждается данными исследваний функциях, таких как арифметические операции и абстракция, а также в таких аспектах языка, как подбор слов и метафор. Левая надкраевая извилина, с другой стороны, формирует яркий образ планируемых действий, которые требуют навыков, например шитье иголкой, забивание молотком гвоздя или прощальный взмах руки, а затем выполняет их. Соответственно, поражение левой угловой извилины уничтожает такие абстрактные навыки, как чтение, письмо или счет, в то время как повреждение левой надкраевой извилины помешает вам управлять движениями, требующими навыков. Когда я прошу вас поприветствовать меня рукой, у вас сначала появляется визуальный образ приветствия, а затем вы используете этот образ, чтобы управлять движениями вашей руки. Однако если ваша левая надкраевая извилина повреждена, вы просто озадаченно уставитесь на руку или же у вас просто ничего не выйдет. Даже если рука не парализована и не слишком слаба и вы можете отчетливо понимать команды, вы не сможете заставить руку подчиниться вашим намерениям.
Лобные доли также ответственны за некоторые особые и жизненно важные функции. Частью этой области является двигательная кора — вертикальная полоса коркового вещества, проходящая как раз перед большой бороздой посередине мозга (см. рис. В.2), — участвующая в формировании простых двигательных команд. Другие части лобных долей участвуют в планировании действий и удерживании в сознании целей в течение времени, достаточного для их достижения. В лобной доле также находится еще одна небольшая часть, необходимая для того, чтобы удерживать вещи в памяти достаточно долго, чтобы знать, чему нужно уделить внимание. Эта способность называется рабочей памятью или кратковременной памятью.
Пока все замечательно. Но когда вы обратите внимание на переднюю часть лобных долей, вы вступите в самую загадочную сферу неизведанной области мозга — префронтальную кору, часть которой можно увидеть на рис. В.2. Что весьма странно, даже значительные повреждения этой области могут не повлечь за собой никаких заметных признаков неврологических или когнитивных нарушений. Пациентка может выглядеть совершенно нормальной, если вы, увидев ее впервые, пообщаетесь с ней пару минут. Однако если вы поговорите с ее близкими, они вам скажут, что ее личность неузнаваемо изменилась. «Ее больше нет. Я совершенно не узнаю этого нового человека», — вот какие душераздирающие слова вы часто можете услышать от ошеломленных супругов и старых друзей. Ну а уж если вы продолжите общаться с пациенткой еще несколько часов или дней, вы тоже поймете, что имеются какие-то серьезные нарушения.
Если повреждена левая префронтальная доля, пациент может отказаться от социальной жизни и проявлять характерное отвращение к любому делу. Это принято называть псевдодепрессией — «псевдо» по той причине, что ни один из стандартных критериев для определения депрессии, таких как чувство подавленности и хронические негативные прокручивания мыслей, не выявляются при психологическом и неврологическом исследовании. Напротив, если повреждена правая префронтальная доля, пациент будет выглядеть так, будто он пребывает в эйфории, хотя на самом деле это не так. Случаи повреждения префронтальной доли особенно тяжелы для родственников пациентов. Кажется, что такой пациент потерял всякий интерес к своему будущему и не признает никаких моральных ограничений. Он может смеяться на похоронах и мочиться на публике. Величайший парадокс заключается в том, что он выглядит нормальным во всем остальном: его речь, его память и даже его интеллект совершенно не затронуты. Однако он утерял многие из тех важнейших свойств, которые определяют человеческую природу: честолюбие, сопереживание, благоразумие, многосторонность личности, моральное чувство, чувство человеческого достоинства. (Любопытно, что отсутствие сопереживания, моральных принципов и самоконтроля часто наблюдается у социопатов, и невролог Антонио Дамазио предполагал, что у них может наличествовать клинически не выявленная дисфункция лобной доли.) По этим причинам префронтальная кора часто рассматривалась как «местонахождение человечности». Что же касается вопроса о том, каким образом столь относительно малому участку мозга удается организовывать работу столь сложного и изощренного набора функций, то здесь мы все еще пребываем в растерянности.
Возможно ли, как в свое время пытался Оуэн, выделить особую часть мозга, делающую наш вид уникальным? Вряд ли. Нет ни одной области или структуры, которая была бы имплантирована в мозг с нуля целиком неким разумным создателем, на анатомическом уровне каждая часть нашего мозга имеет прямой аналог в мозге высших приматов. Тем не менее последние исследования выделили несколько областей мозга, которые были столь радикально преобразованы, что на функциональном (или когнитивном) уровне они могут действительно рассматриваться как оригинальные и уникальные. Выше я уже упомянул три из этих областей: область Вернике в левой височной доле, префронтальную кору и нижние теменные дольки в каждой теменной доле. Действительно, составные части нижних теменных долек — а именно надкраевая и угловая извилины — анатомически у приматов отсутствуют. (Оуэну было бы приятно узнать об этом.) Необычайно быстрое развитие этих областей у человека предполагает, что там должно было происходить нечто чрезвычайно важное, и клинические наблюдения это подтверждают.
Внутри некоторых из этих областей находится особый класс нервных клеток, называемых зеркальными нейронами. Эти нейроны активизируются не только когда вы сами выполняете действие, но также и тогда, когда вы видите, что кто-то другой выполняет это же самое действие. Это выглядит столь просто, что невероятные выводы из этого факта очень легко упустить. Эти нейроны, в сущности, позволяют вам сопереживать другому человеку и «читать» его намерения — постигать, что он действительно хочет сделать. Вы это делаете, «подражая» его действиям, используя образ вашего тела.
Когда вы видите, как кто-то берет, например, стакан с водой, ваши зеркальные нейроны автоматически воспроизводят это же самое действие в вашем воображении (обычно подсознательно). Зачастую ваши зеркальные нейроны сделают следующий шаг и представят вам то действие, которое, как они предугадывают, собирается сделать другой человек, например, поднести стакан к губам и сделать глоток. Таким образом, вы автоматически формируете предположение о его намерениях и мотивах — в данном случае, что человек хочет пить и собирается утолить жажду. Может оказаться, что вы ошиблись в предположении — он хотел взять воду, чтобы погасить огонь или плеснуть в лицо грубому собеседнику, но обычно ваши зеркальные нейроны очень точно «догадываются» о чужих намерениях. По существу, эта способность, которой нас одарила природа, очень близка к телепатии. телепатия по определению не нуждается в сенсорном наблюдении за другим, так что вообще аналогия неуместна.
Эти способности, а также лежащая в их основе работа зеркальных нейронов, наблюдаются и у приматов, однако только у человека они развились до способности моделировать аспекты разума другого человека, а не просто его поведения. Это - опять необоснованное утверждение, следующее за уже вполне предвзятым убеждении в исключительности психики человека. Вообще разговоры о "зеркальных нейронах", гипнотизирующих исследователей внеше наблюдаемыми реакциями, оказываются далеки от осмысления механизмов таких наблюдаемых реакций. Об этом было обсуждение, в частности, утверждение:
Перво-наперво стоит осознать, что название "зеркальные нейроны" - чрезвычайно условно и вовсе не говорит, что существуют нейроны, имеющие функции отслеживать поведение других особей. Это - большая ошибка, которая потянет неправильные представления о явлении отзеркаливания чужого поведения.
Нейрон - всегда лишь распознаватель и никаких других функций у него нет.
То, что какие-то нейроны проявляют визуально наблюдаемую активность в акте отзеркаливания вовсе не говорит, что они обеспечивают преемственное поведение. Распознавание при восприятии чужого поведения элементов, которые уже наработаны у особи в области контекстной зоны, характерной для данных условий (эмоциональный контекст, сужающий область работы нейросети), приводит к активации таких распознавателей вне зависимости от того, будем ли мы зеркалить поведение или просто наблюдаем за знакомыми нам (по наработанным своим) элементам. Так же распознается и возможный прогноз такого поведения (если был такой опыт) и мы поморщимся, переживая неминуемую боль от того, что кто-то схватился за раскаленный предмет.
Вот в целом какова картина и возможность использовать чужое поведениe для того, чтобы делать выводы для себя.
Неизбежно это потребовало развития дополнительных связей, чтобы обеспечить более сложное функционирование таких схем в сложных социальных ситуациях. Расшифровка природы этих связей, чтобы не говорить, что, дескать, все дело в зеркальных нейронах, одна из важнейших задач современной науки о мозге.
Сложно переоценить важность понимания зеркальных нейронов и их функций. Они вполне могут оказаться центром социального обучения, подражания и культурной передачи навыков и отношений, а возможно, и тех слитых воедино групп звуков, которые мы называем словами. Благодаря усиленному развитию системы зеркальных нейронов эволюция фактически сделала культуру новым геномом. Взяв на вооружение культуру, человек теперь мог адаптироваться к новому враждебному окружению и в течение одного-двух поколений понять, как использовать ранее недоступные или ядовитые источники пищи — генетической эволюции для такой адаптации потребовались бы сотни и даже тысячи поколений.
Таким образом, культура стала новым важным источником эволюционного влияния, которое помогало отбирать «мозги», имевшие лучшие системы зеркальных нейронов и, соответственно, связанное с ними подражательное обучение. Результатом стало одно из многих растущих как снежный ком явлений, в кульминации приведших к образованию Homo sapiens, обезьяны, заглянувшей в собственное сознание и увидевшей весь отраженный в нем мир.
ГЛАВА 1
Фантомные конечности и пластичность мозга
Обожаю дурацкие эксперименты. Я сам их всегда ставлю.
ЧАРЛЬЗ ДАРВИН
Еще будучи студентом-медиком, я осматривал пациентку по имени Михи во время моей практики в неврологическом отделении. Стандартное клиническое обследование требовало, чтобы я уколол ее шею острой иглой. Это должно было быть больно, но при каждом уколе иглой она громко смеялась, говоря, что ей очень щекотно. Как я тогда понял, это было величайшим парадоксом: смех перед лицом боли, состояние человека в миниатюре. У меня не было возможности исследовать случай Михи в полной мере, как мне этого тогда хотелось.
Вскоре после этого случая я решил изучать зрение и восприятие человека, и решение это было в значительной степени обусловлено влиянием великолепной книги Ричарда Грегори «Глаз и мозг» (Eye and Brain). Несколько лет я отдал исследованиям по нейрофизиологии и зрительному восприятию, сначала в Тринити-колледже Кембриджского университета, а затем в сотрудничестве с Джеком Пет-тигрю в Калифорнийском технологическом институте.
Но я никогда не забывал пациентов вроде Михи, с которыми столкнулся во время студенческой практики по неврологии. Казалось, что в неврологии осталось еще так много нерешенных вопросов. Почему Михи смеялась, когда ее кололи? Почему, когда вы ударяете по внешнему краю стопы парализованного пациента, большой палец ноги поднимается? Отчего пациенты с припадками, локализованными в области лобной доли, верят, что они испытывают присутствие Бога, и проявляют гиперграфию (неконтролируемый непрекращающийся процесс письма) ? Почему во всем прочем разумные, совершенно здравомыслящие пациенты с повреждением правой теменной доли отрицают, что их левая рука принадлежит им? Почему истощенная женщина, страдающая анорексией, с совершенно нормальным зрением, смотрит в зеркало и утверждает, что выглядит жирной? Итак, после нескольких лет специализации на проблемах зрительного восприятия я вернулся к моей первой любви: неврологии. Я изучил многие оставшиеся без ответа вопросы в этой области и решил сконцентрироваться на конкретной проблеме — фантомных конечностях. Я и не подозревал, что мое исследование предоставит невиданное ранее свидетельство поразительной пластичности и приспособляемости человеческого мозга.
К тому времени уже более ста лет было известно, что, когда пациент теряет руку при ампутации, он может весьма живо ощущать присутствие этой руки, как будто бы призрак руки преследует место своей ампутации. Предпринимались разные попытки объяснить это необычное явление, начиная с фрейдовских теорий, касающихся удовлетворения желаний, и заканчивая ссылкой на материальность души человека. Не удовлетворившись ни одним из этих объяснений, я решил попытаться решить загадку с точки зрения нейронауки.
Помню пациента по имени Виктор, которому я посвятил почти месяц сумасшедших экспериментов. Его левая рука была ампутирована ниже локтя примерно за три недели до нашей встречи. Сначала я убедился, что у него не было никаких неврологических проблем: мозг не был затронут, разум был в норме. Доверившись интуиции, я закрыл ему глаза повязкой и начал прикасаться ватной палочкой к различным частям его тела, попросив его сообщать мне, что и где он чувствует. Его ответы были вполне нормальными и правильными, пока я не начал касаться левой части его лица. Тогда и случилось нечто весьма странное.
— Доктор, я это чувствую на моей фантомной кисти. Вы прикасаетесь к большому пальцу, — сказал он.
Я стал поглаживать молоточком нижнюю часть его челюсти.
— Ну а что сейчас? — спросил я.
— Чувствую, как какой-то острый предмет передвигается через мизинец к ладони, — ответил он.
Повторяя эту процедуру, я обнаружил на его лице настоящую карту его отсутствующей кисти. Эта карта была потрясающе точной и целостной, с точно очерченными пальцами (см. рис. 1.1). Однажды я нажал на его щеку влажной ватной палочкой и пустил струйкой по его лицу капельку воды, как будто бы это стекала слеза. Он чувствовал, как вода стекала по его лицу, но заявил, что также ощущает, как капля стекает вдоль его фантомной руки. Правым указательным пальцем он даже проследил извилистый путь капли по пустому воздуху перед своей культей. Из любопытства я попросил его поднять культю и направить фантомную конечность на потолок. К его удивлению, он почувствовал, как следующая капля воды текла вверх по его фантому, отрицая закон силы притяжения.
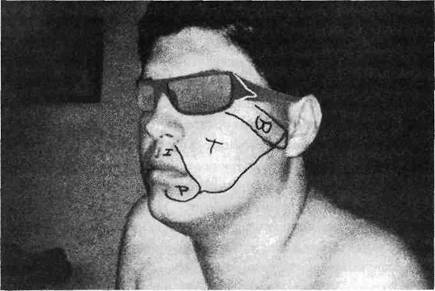
Рис. 1.1. Пациент с левой фантомной рукой. Когда дотрагиваются до различных частей его лица, он ощущает прикосновения к различным частям фантомной руки. Р - ладонь, Т - большой палец, В - основание большого пальца, I - указательный палец
Виктор сказал, что никогда раньше не ощущал эту виртуальную кисть на своем лице, но как только он узнал об этом, то сразу нашел ей хорошее применение. Лишь только его фантомная ладонь начинает чесаться — что бывало весьма часто и буквально сводило его с ума, — он успокаивает ее, почесывая соответствующее место на лице. Почему так? Ответ, как я понял, можно найти в анатомии мозга. Вся поверхность кожи левой стороны тела отображена в виде карты на полосе коры, называемой постцентральной извилиной (см. рис. В.2), идущей вниз по правой стороне мозга. Эта карта часто изображается в виде схематического человечка на поверхности мозга (рис. 1.2). Хотя по большей части карта весьма точна, некоторые кусочки перепутаны по сравнению с тем, как реально тело устроено. Обратите внимание, что карта лица расположена рядом с картой кисти руки, а вовсе не шеи, где «должна» была быть. Это как раз и дало мне ключ к решению.
Представьте себе, что происходит при ампутации руки. Самой руки больше нет, но в мозге все еще остается карта руки. Работа этой карты, смысл ее существования в том, чтобы отображать эту руку. Руки уже никогда не будет, но карта в мозге никуда не девается. Она упорно продолжает отображать руку, каждую секунду, день за днем. Эта карта и объясняет фантомную конечность — почему конечность чувствуется еще долго после того, как реальная конечность из плоти и крови была отрезана.
Ну а как теперь объяснить странную склонность приписывать осязательные ощущения, идущие от лица, фантомной руке? Осиротевшая мозговая карта продолжает отображать отсутствующие руку и ладонь, даже если их уже нет, но не получает больше реальных входящих осязательных сигналов. Она вслушивается в мертвый канал и, так сказать, жаждет сенсорных сигналов. Имеется два возможных объяснения тому, что происходит дальше. Первое заключается в том, что сенсорный входящий сигнал, идущий от кожи лица на мозговую карту, начинает активно вторгаться на незанятую территорию, отвечающую за отсутствующую кисть. Нервные волокна, идущие от кожи лица, которые в обычных условиях входят в лицевую часть коры, отращивают тысячи новых нервных ответвлений-усиков, которые переползают в карту руки и создают новые здоровые синапсы.
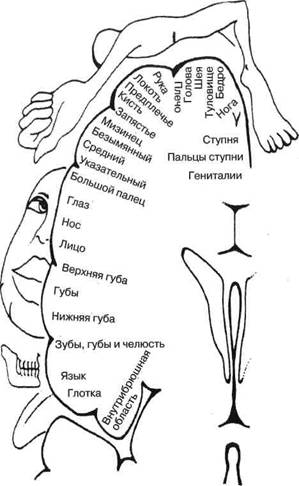
Рис. 1.2. Карта Пенфилда поверхности кожи на постцентральной извилине (см. рис. В.2). Показан поперечный срез, который проходит через середину мозга на уровне постцентральной извилины. Художник изобразил человечка на поверхности мозга, чтобы наглядно показать присутствие определенных частей тела (лицо и кисть) и то, что карта кисти находится над картой лица
В результате этих перекрестных проводных соединений осязательные сигналы, относящиеся к лицу, активизируют не только карту лица, как это происходило бы в норме, но и карту кисти в коре мозга, которая кричит «рука!» высшим областям мозга. Конечный результат состоит в том, что пациент чувствует, что к его фантомной кисти прикасаются всякий раз, когда прикасаются к его лицу.
Второе возможное объяснение состоит в том, что еще перед ампутацией сенсорный сигнал от лица посылается не только в лицевую область, но и частично вторгается в область кисти, как будто это резервные войска, готовые вступить в бой. Но эти отклоняющиеся от нормы связи обычно молчат, возможно, потому, что они постоянно тормозятся или подавляются нормальной активностью основной сигнальной линии, идущей от кисти. В таком случае ампутация обнаруживает эти неактивные в нормальной ситуации синапсы, так что прикосновение к лицу активизирует клетки в области мозга, отвечающей за кисть. В свою очередь, это заставляет пациента испытывать ощущения, как будто бы возникающие в отсутствующей кисти руки.
Второе объяснение представляется более вероятным и "логичным", но стоит иметь в виду, что поломанные системы управления могут давать самые удивительные и необъяснимые эффекты просто по причине вот такого разрушения нормальной функциональности в силу нарушения цепей регуляции. Такие опыты, конечно, очень интересны, как интересно было бы тыкать отверткой в работающий компьютер и смотреть какой удивительный эффект это вызовет в его работе, но пытаться как-то систематизировать такие нарушения для целей понимания работы нормального устройства вряд ли наиболее целесообразно, хотя и такой метод в определенной мере информативен.
Независимо от того, какая из этих двух теорий — отращивание новых нервных ответвлений или обнаружение подавляемых сигналов — верна, во всем этом есть важная информация для медицины. Целым поколениям студентов-медиков твердили, что триллионы нейронных связей мозга закладываются во время внутриутробного развития и в раннем детстве, в то время как мозг взрослого теряет способность образовывать новые связи. Такое отсутствие пластичности, отсутствие способности восстанавливать или принимать новую форму часто использовалось как оправдание, когда пациентам говорили, почему им следует ожидать лишь очень небольшого восстановления функций после инсульта или травматического повреждения мозга. Наши наблюдения решительно опровергли эту догму, в первый раз показав, что даже основные карты чувствительности мозга взрослого человека могут изменяться на расстоянии в несколько сантиметров. Нам удалось использовать технику сканирования головного мозга, чтобы непосредственно показать правоту нашей теории: мозговые карты Виктора изменились так, как и было предсказано (рис. 1.3).
Вскоре после того, как наши данные были опубликованы, доказательства, подтверждающие и расширяющие эти открытия, стали поступать от многих исследовательских групп. Два итальянских исследователя, Джованни Берлукки и Сальваторе Альоти, выявили, что после ампутации пальца обнаружилась «карта» одного-единствен-

Рис. 1.3. Карта МЭГ (магнитоэнцефалограф) поверхности тела у пациента с ампутированной правой рукой. Заштрихованная область - кисть, черные области -лицо, белые области - верхняя часть руки. Обратите внимание, что область, соответствующая правой кисти (заштрихованная), отсутствует в левом полушарии, но этот участок активируется, когда дотрагиваются до лица или верхней части руки
ного пальца, аккуратно нанесенная на лицо, как и предполагалось. У другого пациента был удален тройничный нерв (чувствительный нерв, иннервирующий лицо), и вскоре на его ладони обнаружилась карта лица, что является точным обращением того, что мы уже наблюдали. Наконец, после ампутации ноги у другого пациента ощущения от пениса чувствовались в фантомной ноге. (Действительно, пациент утверждал, что теперь оргазм распространялся на ногу и из-за этого был «намного сильнее, чем когда-либо».) Такое происходит из-за еще одной странной непоследовательности мозговой карты тела: карта гениталий находится прямо возле карты ноги.
мой второй эксперимент с фантомными конечностями был еще проще. В двух словах, я сделал простое устройство с использованием обычных зеркал, чтобы заставить двигаться парализованные фантомные конечности и таким образом ослабить фантомную боль. Чтобы объяснить принцип работы, сначала я должен объяснить, почему некоторые пациенты могут «двигать» своими фантомными конечностями, а другие нет.
Многие пациенты с фантомами отчетливо ощущают, что они способны двигать отсутствующими конечностями. Они говорят слова вроде «Я машу рукой на прощание» или «Я тяну руку, чтобы ответить на телефонный звонок». Конечно, они хорошо понимают, что их рука в действительности не делает всего этого — у них нет галлюцинаций, они просто безрукие, — но субъективно у них есть живое ощущение, что они действительно двигают своим фантомом. Каков источник этих ощущений?
Я предположил, что они исходят из двигательных командных центров в передней части мозга. Из введения вы можете вспомнить, как мозжечок с точностью регулирует наши движения благодаря следящей системе управления. Чего я тогда не упомянул, так это того, что теменные области также принимают участие в этой системе управления, используя, в сущности, такой же механизм. Кратко напомню: исходящие двигательные сигналы к мышцам фактически передаются теменным долям, где они сравниваются с сенсорными обратными сигналами от мышц, кожи, суставов и глаз. Если теменные доли обнаруживают какое-либо несовпадение между предполагаемым движением и действительным движением руки, они дают корректирующие поправки в следующий круг двигательных сигналов. Вы используете такую следящую систему управления все время. Это то, что позволяет вам, например, во время завтрака найти на столе свободное место для тяжелого кувшина с соком, не расплескивая сок и не стуча кувшином по всему столу. А теперь представьте, что происходит, когда рука ампутирована. Двигательные командные центры в передней части мозга «не знают», что руки нет, — они работают на автопилоте, — так что они продолжают посылать двигательные сигналы отсутствующей руке. Кроме того, они продолжают отсылать копии сигналов теменным долям. Эти сигналы приходят в осиротевшую, испытывающую недостаток в сигналах область руки вашего центра создания образа тела в теменной доле. Эти копии сигналов двигательных команд ложно интерпретируются мозгом как действительные движения фантома.
Теперь вы можете задуматься, почему, если это так, вы не испытываете такого же живого ощущения фантомного движения, когда вы воображаете движение руки, умышленно оставляя ее в покое. Вот объяснение, предложенное мной несколько лет назад, подтвержденное изучением снимков головного мозга. Когда ваша рука в покое, сенсорные сигналы от кожи, мышц, рецепторов суставов руки, а также и зрительные сигналы от ваших глаз единогласно свидетельствуют, что ваша рука не движется на самом деле. Хотя ваша двигательная кора и посылает «двигательные» сигналы вашей теменной коре, противодействующее свидетельство сенсорных обратных сигналов накладывает на них могущественное вето. В результате вы не испытываете воображаемое движение как реальное. Но если руки нет, ваши мышцы, кожа, суставы и глаза не могут обеспечить такой действенной проверки на действительность. Без запрета, идущего от обратных сенсорных сигналов, самый сильный сигнал, поступающий в вашу теменную долю, — это двигательная команда руке. В результате вы испытываете как бы настоящие ощущения движения.
Если четко понимать каким образом формируются поведенческие цепочки автоматизмов [29], как каждая фаза предыдущего элементарного действия своей активностью подготавливает к запуску последующую и нужен пусковой стимул актуальности такого запуска от сенсорной системы (в частности бывает от проприорецепторов или распознавателей зрительного восприятия), то становится ясно, что само ощущение "я двигаю" вовсе не находится на этом уровне, а является процессом субъективизации при осознании данного движения, т.е. является не двигательным, а мыслительным автоматизмом [249] если только не составляет текущий фокус осознанного восприятия. Мыслительный автоматизм вовсе не отслеживает всю последовательность движения, а явялется результатом бывшей ранее фиксации вниманием наиболее новой и важной из фаз всех поведенческих реакций, перескакивая с одного осознаваемого элемента поведенческой цепочки на другой. А предположения автора никак не касаются самого главного: именно субъективизации ощущений. И в таком контексте описанные феномены должны рассматриваться совершенно по другому.
Движение фантомной конечностью само по себе странная вещь, но она может стать еще более странной. Многие пациенты с фантомными конечностями сообщают о совершенно обратном эффекте — их фантомы парализованы. «Она заморожена, доктор». «Она зацементирована». Для некоторых из таких пациентов фантом зажат в неудобном, совершенно болезненном положении. «Если бы я только мог ею пошевелить, — как-то сказал мне один пациент, — это помогло бы облегчить боль».
Когда я впервые с этим столкнулся, я был обескуражен. Бессмыслица какая-то! Они утратили свои конечности, но сенсомоторные связи в их мозге остались, по-видимому, такими же, как и до ампутации. Озадаченный, я стал изучать истории болезни некоторых из этих пациентов и быстро обнаружил искомый ключ. Еще до ампутации у многих из этих пациентов наблюдался реальный паралич руки, вызванный поражением периферического нерва: нерв, иннервирующий руку, был вырван из спинного мозга, словно телефонный провод, выдернутый из гнезда в стене, вследствие какого-либо резкого действия. Таким образом, сама рука не была затронута, но была парализована за много месяцев до ампутации. Тогда я задумался: а что, если этот период действительного паралича мог привести к состоянию усвоенного паралича, что, как я предположил, могло произойти следующим образом.
До ампутации всякий раз, когда двигательная кора посылала двигательную команду руке, чувствительная кора в теменной доле могла получать отрицательный обратный сигнал то ли фиговый перевод, то ли небрежность самого автора неудачно упоминувшего здесь отрицательность обратной связи от мышц, кожи, суставов и глаз. Вся система, основанная на отслеживании обратных сигналов, больше не работала. Теперь твердо установлено, что опыт изменяет мозг, усиливая или ослабляя синапсы, соединяющие нейроны. Этот процесс изменения известен как обучение. Когда сложившиеся конфигурации постоянно подкрепляются, например, мозг замечает, что за событием А неизбежно следует событие В, синапсы между нейронами, представляющими А, и нейронами, представляющими В, усиливаются. С другой стороны, если А и В не имеют несомненной связи друг с другом, нейроны, представляющие А и В, отключат взаимные связи, чтобы отобразить новую реальность. Вот здесь опять очень скользкий момент при упоминании рефлекса там, где распознаватель образуется "с учителем", используя механизмы сознания [123], что совершенно не то же, что условия образования связей при формировании распознавателя в первичных зонах во время критического периода развития данного участка нейросети. Но эта вторая, осознательная часть адаптивности далека от понимания современных "чистых" нейрофизиологов...
Итак, мы имеем ситуацию, где двигательная кора постоянно посылает двигательные сигналы руке, относительно которой теменная доля постоянно замечала полное отсутствие мышечного и чувствительного эффекта. Синапсы, поддерживавшие строгие соотношения между двигательными командами и обратными сенсорными сигналами, которые они должны были бы производить, оказались дающими ложную информацию. Всякий новый бесплодный двигательный сигнал лишь усиливал эту тенденцию, так что синапсы становились все слабее и слабее, пока в конечном итоге не отмерли. Другими словами, мозг был обучен параличу, и паралич был прописан в схеме, конструирующей образ тела пациента. Позднее, когда рука была ампутирована, усвоенный паралич был перенесен на фантом, так что и фантом ощущался как парализованный.
Как же можно проверить столь странную теорию? Мне пришла в голову идея соорудить ящик с зеркалами (рис. 1.4). Я поместил зеркало вертикально в центре картонной коробки, у которой были

РИС. 1.4. Устройство из зеркал для «оживления» фантомной конечности. Пациент «кладет» парализованную и причиняющую боль фантомную левую руку сзади зеркала и здоровую правую руку перед зеркалом. Теперь если он смотрит на отражение правой руки в зеркале, у него возникает иллюзия, что фантомная рука восстановлена. Движения настоящей руки создают впечатление, что фантомная рука также движется, и у пациента возникает соответствующее ощущение - впервые за многие годы. У многих пациентов это упражнение снимает боли в фантомной руке.
Вот это как раз хорошо показывает, что ощущение "движения" возникает вовсе не на уровне "теменной коры" куда как и раньше не поступают сенсорных сигналов от ампутированной руки.
Визуальная обратная связь через зеркало более эффективна, чем традиционные методы лечения для синдрома хронической местной боли и паралича вследствие инсульта удалены верхняя и передняя части. Если бы вы стояли перед этой коробкой, держа руки по обе стороны от зеркала, и посмотрели бы на них под углом, вы бы увидели, что отражение одной руки весьма точно накладывается на ощущаемое положение другой вашей руки. Другими словами, у вас будет яркое, хотя и ложное, впечатление, что вы смотрите на обе своих руки, на деле же вы бы смотрели на одну настоящую руку и одно отражение руки.
Если у вас две нормальных здоровых руки, можно неплохо поразвлечься, играя с создавшейся иллюзией в коробке с зеркалом. Например, вы можете несколько секунд двигать руками синхронно и симметрично, притворяясь, будто вы хорошо управляете оркестром, а затем внезапно переместить их в разные стороны. Хотя вы и знаете, что это всего лишь иллюзия, ваш разум все равно немного встряхнется от легкого удивления, когда вы это проделаете. Удивление рождается от неожиданного несовпадения двух потоков обратных сигналов: сигналы, приходящие от кожи и мышц руки, находящейся за зеркалом, говорят одно, но зрительный сигнал, который вы получаете от отраженной в зеркале руки — а ведь вы уже убедили теменную долю, что это и есть спрятанная рука, — сообщает о совершенно ином движении.
А теперь посмотрим, что устройство из картонной коробки и зеркала может сделать для человека с парализованной фантомной конечностью. У первого пациента, на котором мы его опробовали, Джимми, правая рука была здоровой, а левая — фантомом. Его фантом выпирал из культи, словно пластиковое предплечье манекена. Что еще хуже, он был подвержен весьма болезненному защемлению, с которым ничего не могли поделать лечащие врачи Джимми. Я показал ему коробку с зеркалом и объяснил, что мы собираемся сделать нечто экстраординарное, безо всякой гарантии положительного эффекта, но он с удовольствием изъявил желание все же попробовать. Он поместил свой парализованный фантом по левую сторону от зеркала, стал смотреть в правую сторону коробки и осторожно расположил правую руку так, чтобы она совпадала с ощущаемым положением фантома (или была наложена на него). Это сразу же вызвало у него поразительное зрительное впечатление, будто призрак его руки воскрес из мертвых. Затем я попросил его произвести зеркально симметричные движения обеими руками и ладонями, продолжая смотреть в зеркало. Он вскрикнул: «Да ее как будто снова воткнули на место!» Теперь у него не только было живое ощущение того, что фантом подчиняется его командам, но и, к его удивлению, это облегчило болезненные судороги в его фантоме впервые за несколько лет. Выглядело это так, словно зеркальная зрительная обратная связь (ЗЗОС) позволила его мозгу «отучиться» от усвоенного паралича.
Что еще более примечательно, когда один из наших пациентов, Рон, забрал коробку с зеркалом домой и в течение трех недель развлекался с ней в свободное время, его фантомная конечность бесследно исчезла, а вместе с ней и боль. Все мы были шокированы. Обычная коробка с зеркалом изгнала фантом. Каким же образом? Никому еще не удалось обосновать действующие здесь механизмы, но вот мои соображения о том, как это работает. Столкнувшись с путаницей в противоречащих входящих сенсорных сигналах — нет сигналов от суставов и мышц, нерабочие копии сигналов двигательных команд, а теперь еще вдруг противоречащий им зрительный сигнал, посылаемый коробкой с зеркалом, — мозг просто сдается и фактически говорит: «Да пошло оно к черту, руки нет». Мозг прибегает к отрицанию. Такие предположения практически не имют шанса оказаться верными, здесь нужно хорошо и целостно представлять себе соотвествующие механизмы психических явлений. Хотя в данном случае чисто алхимический способ оказался полезен практически, и тут, похоже, сработала личная интуиция, а не помогли формальные объяснения, - интуиция специалиста, наработавшего очень богатый опыт, как это было ярко проиллюстрировано в статье Понимание. Умение понимать. Общение.: Бересфорд понимал. Уайт объяснял. Разница весьма велика. Бересфорд чувствовал, что "Маджестик" опрокинется. Он не умел объяснить, почему. Но он знал!
Я часто говорю своим коллегам-медикам, что это первый случай успешной ампутации фантомной конечности в истории медицины. Когда я впервые обнаружил такое исчезновение фантома при использовании ЗЗОС, я сам в это не очень-то поверил. Мысль, будто вы можете ампутировать фантом с помощью зеркала, выглядит весьма нелепой, но этот опыт был воспроизведен другими группами исследователей, особенно Гертой Флор, нейроученым из Гейдельбергского университета. Ослабление фантомных болей было подтверждено группой Джека Цао в Военно-медицинском центре Уолтера Рида в Мэриленде. Они провели плацебо-контролируемое клиническое исследование на 24 пациентах (из них 16 входили в контрольную группу). Фантомные боли исчезли спустя всего три недели у 8 пациентов, на которых использовалось зеркало, в то время как ни один пациент из контрольной группы (где вместо зеркал использовались плексиглас и зрительные проекции) не показал никакого улучшения. Более того, когда пациенты контрольной группы были переведены на зеркала, они показали такое же существенное снижение боли, как и пациенты исходной экспериментальной группы.
Еще более важно, ЗЗОС сейчас используется для ускорения восстановления от паралича вследствие инсульта. Мой ученый коллега Эрик Альтшулер и я впервые сообщили об этом в журнале The Lancet за 1998 год, но размер нашей выборки был невелик — всего 9 пациентов. Германская группа, возглавляемая Кристианом Доле, недавно опробовала эту технику на 50 парализованных пациентах во время тройного слепого исследования и показала, что у большинства из них были восстановлены как сенсорные, так и моторные функции.
Учитывая, что из шести человек один страдает от последствий инсульта, это открытие приобретает особую значимость.
Появляется все больше клинических применений ЗЗОС. Одно из них имеет отношение к весьма странному расстройству болевой чувствительности, носящему не менее странное название — комплексный регионарный болевой синдром, тип II (КРБС-П), что является просто-напросто словесной дымовой завесой для «Какое ужасное название! Понятия не имею, что это такое». Но как бы вы его ни называли, этот недуг — явление вполне обычное, он проявляется примерно у 10 процентов людей, перенесших инсульт. Гораздо более известный вариант этого расстройства появляется после незначительных повреждений, вроде, как правило, безвредной волосяной трещины в одной из пястных костей руки. Разумеется, сначала возникает боль, которая, как и следует ожидать, сопровождает перелом кисти. Обыкновенно боль постепенно спадает по мере выздоровления кости. Но у несчастливой подгруппы пациентов этого не происходит. У них все заканчивается неослабевающей хронической мучительной болью, которая сохраняется неопределенно долгое время после того, как первоначальная рана была исцелена. Лечения не существует — по крайней мере, так меня учили в медицинском университете.
Мне пришло на ум, что эволюционный подход к этой проблеме может оказаться полезным. Мы обычно думаем о боли как о чем-то простом, но с функциональной точки зрения существует по крайней мере два вида боли. Есть острая боль — когда вы, например, кладете руку на раскаленную плиту, вскрикиваете и отдергиваете руку, а кроме того, существует хроническая боль: это боль, которая не прекращается или периодически возвращается на протяжении долгого или неопределенного времени, такая может сопровождать перелом кости кисти руки. Хотя в обоих случаях ощущения одинаковы — это боль, — у них разные биологические функции и разное происхождение. Острая боль заставляет вас немедленно отдернуть руку от плиты, чтобы избежать дальнейшего поражения тканей. Хроническая боль побуждает вас держать сломанную руку в неподвижности, чтобы избежать повторного повреждения во время выздоровления.
"Боль" - это опять же, результат субъективизации, психическое явление, котрое нужно рассматривать в контексте именно осознаваемых явлений, и, как и все псих.явления, ее значимость может быть изменена приданием (для новых условий, что является обязательным для осознанного изменения отношения) ассоциации не с негативными распознавателями значимости, а с позитивными и тогда боль получит иной смысл, что бывает у мазохистов.
Я начал размышлять: если усвоенный паралич мог объяснить обездвиженность фантомов, возможно, КРБС-П является формой «усвоенной боли». Представьте себе пациента с переломом кисти. Представьте себе, как во время его долгого выздоровления боль проходит по его кисти всякий раз, когда он пытается пошевелить ею. Его мозг наблюдает постоянную схему событий «если А, то В», где А — движение, а В — боль. Таким образом, синапсы между разными нейронами, отражающими эти два события, ежедневно укрепляются — месяцами кряду. В конце концов сама попытка пошевелить кистью вызывает мучительную боль. Эта боль может даже распространиться на всю руку, сковывая ее. Опять явление субъективизации объясняется механизмами всего лишь условий образования свезей. В этом случае не было бы боли просто потому, что не было бы сенсорной активации соотвествующих распознавателей. А вот ожидание боли при частом осознавании (во всех случаях новизны и очень большой значимости боли), перешедшее в неосознаваемый автоматизм даст именно описываемую картину. В некоторых подобных случаях рука не только парализуется, но еще и действительно распухает и воспаляется, а в случае атрофии Судека может начать атрофироваться и кость. Более чем наглядно: взаимосвязь между телом и разумом пошла вкривь и вкось.
Во время симпозиума «Декада мозга», организованного мной в октябре 1996 года в Калифорнийском университете, Сан-Диего, я высказал предположение, что коробка с зеркалами может помочь в облегчении усвоенной боли таким же образом, как она облегчает фантомные боли. Пациент может попытаться синхронно двигать конечностями, смотря при этом в зеркало и создавая иллюзию, что больная рука может свободно передвигаться, не вызывая при этом боли. Если регулярно смотреть в зеркало, это может привести к «отучиванию» от усвоенной боли. Несколько лет спустя две исследовательские группы провели опыты с коробкой с зеркалом и обнаружили, что она эффективна в лечении КРБС-П у большинства пациентов. Оба исследования проводились двойным слепым методом с использованием плацебо-контроля. Честно говоря, я был совершенно изумлен. С тех пор еще два исследования двойным слепым методом со случайной выборкой подтвердили поразительную эффективность этой процедуры. (Существует особый вариант КРБС-П, наблюдаемый у 15 процентов пациентов, перенесших инсульт, и для них зеркало оказалось столь же эффективным.)
Приведу еще одно наблюдение относительно фантомных конечностей, даже еще более примечательное, чем упомянутые случаи. Я использовал уже ставшую традиционной коробку с зеркалом, но добавил новый трюк. У меня был пациент, Чак, который смотрел на отражение своей целой конечности, чтобы зрительно воссоздать изображение фантома, как это было и раньше. Но на этот раз, вместо того чтобы попросить его подвигать рукой, я сказал ему держать ее неподвижно, в то время как я поместил уменьшительную вогнутую линзу между линией его взгляда и отражением в зеркале. С точки зрения Чака, его фантом теперь оказался примерно вдвое или втрое меньше «действительного» размера.
Лицо Чака стало изумленным, и он сказал: «Поразительно, доктор. Мой фантом не только выглядит маленьким, но и чувствуется маленьким. Вы не поверите — боль тоже уменьшилась! Примерно на одну четвертую от того, что было раньше». Понятно, что никакими просто механизмами образования связей этот моментальный эффект при осознании не объяснить.
Это поднимает захватывающий вопрос — может ли реальная боль в реальной руке, вызванная уколом булавки, тоже быть уменьшена, если оптически уменьшить булавку и руку. В нескольких описанных выше экспериментах мы увидели, насколько важным фактором может быть зрение (или его отсутствие), чтобы влиять на фантомные боли и двигательный паралич. Если будет показано, что подобный род оптически опосредованной анестезии сработает и для здоровой руки, это станет еще одним поразительным примером взаимодействия между разумом и телом.
Будет вполне справедливо сказать, что эти открытия вместе с новаторскими исследованиями Майка Мерцениха и Джона Кааса на животных, а также некоторыми оригинальными клиническими работами Леонардо Коэна и Пола Бах-и-Рита открыли настоящую новую эру в неврологии, а особенно в нейрореабилитации. Они привели к коренному сдвигу наших представлений о мозге. Старая точка зрения, господствовавшая в 1980-х, заключалась в том, что мозг состоит из многих специализированных блоков, которые с рождения имеют четко определенные аппаратные задачи. (Диаграммы из прямоугольников и стрелок, показывающие связи в головном мозге, которые вы найдете в учебниках анатомии, стимулировали создание подобной в высшей степени ложной картины в умах целых поколений студентов-медиков. Даже в наше время некоторые учебники продолжают отражать эту «докоперниковскую» точку зрения.)
Но начиная с 1990-х годов этот статичный взгляд на мозг начал постепенно сменяться на более динамичную картину. Так называемые блоки головного мозга не работают в строгой изоляции, существует весьма значительное и всестороннее взаимодействие между ними, намного большее, чем предполагалось вначале. Изменения процессов в одном из блоков — скажем, из-за повреждения, или созревания, или обучения, или жизненного опыта — могут привести к значительным переменам в функционировании многих других блоков, связанных с первым. В весьма значительной степени один блок даже может заимствовать функции другого. Не жесткая, генетически заложенная во внутриутробном состоянии схема работы головного мозга. Нет. В высшей степени гибкая и пластичная и не только у младенцев и маленьких детей, но и на протяжении всей взрослой жизни человека. Как мы уже видели, даже основная «осязательная» карта в мозге может изменяться на довольно больших расстояниях, а фантомная конечность может быть «ампутирована» при помощи зеркала. Теперь вы с уверенностью можете говорить, что мозг — чрезвычайно пластичная биологическая система, находящаяся в динамическом равновесии с внешним миром. Даже ее основные связи могут постоянно обновляться в ответ на изменяющиеся сенсорные потребности. А если вы примете во внимание зеркальные нейроны, то мы можем прийти к выводу, что ваш мозг синхронизирован с другими мозгами — подобно тому, как «друзья» в Facebook постоянно изменяют и обогащают друг друга.
Каким бы примечательным ни был этот сдвиг парадигмы, пусть даже исключительно значимым для клинической практики, вы можете воскликнуть — а какое же отношение эти истории о фантомных конечностях и пластичности мозга имеют к вопросу об уникальности человека? Разве способность к изменениям на протяжении всей жизни — исключительно человеческая черта? Конечно нет. Разве у низших приматов не бывает фантомных конечностей? Конечно бывают. Или находящаяся в их коре карта конечностей и лица не изменяется вследствие ампутации? Конечно изменяется. Так что же эта пластичность говорит нам о нашей уникальности?
Ответ состоит в том, что способность к пластичности на протяжении всей жизни (а не только лишь гены) занимает одно из важнейших мест в эволюции человеческой уникальности. Благодаря естественному отбору наш мозг выработал способность использовать обучение и культуру для того, чтобы запускать фазовые переходы наших психических процессов. Мы вполне могли бы называть себя Homo plasticus. В то время как мозг у других животных просто проявляет гибкость, мы — единственный вид, который использует ее в качестве основного средства для усовершенствования мозга и эволюции.
Вот удивительный по консервативности и необоснованности вывод! Только превзятая уверенность в уникальности психики человека может поддерживать такие представления и, видимо, сходу отметать все противоречащее, или "объясняя" любой из противоречащих фактов в нужной "парадигме". Заодно замечу частое и характерное для необремененных пониманием научной методологии применение Куновского слова "парадигма" (см. об этом).
В общем звучит очень круто: у животных психика наследственно обусловлена, а у человека (не животного, а как бы ангела) - уже нет (см. Наследование признаков).
Один из важнейших способов, при помощи которого нам удалось поднять нейропластичность до таких заоблачных высот, известен под названием неотении — наших до абсурда затянутых периодов детства и юности, что делает нас чрезвычайно пластичными и чрезвычайно зависимыми от старших поколений на протяжении более десятка лет. Детство человека позволяет заложить фундамент для взрослого разума, однако пластичность остается важнейшим фактором на протяжении всей жизни. Без неотении и пластичности мы бы все еще бродили голыми обезьянами в какой-нибудь саванне — без огня, без инструментов, без письма, традиций, верований и мечтаний. Мы и в самом деле были бы «всего лишь» обезьянами, а не стремящимися ввысь ангелами.
Между прочим, хотя мне так никогда и не удалось непосредственно изучить Михи — пациентку, которую я встретил еще студентом-медиком и которая смеялась в тот момент, когда должна была бы взвизгивать от боли что говорит о сугубо субъективизационной основе боли, — я никогда не переставал размышлять над ее случаем. Смех Михи ставит перед нами интересный вопрос: отчего кто-либо смеется над чем-либо? Смех, равно как и его когнитивный спутник, юмор, — универсальная черта, присутствующая во всех культурах. Некоторые приматы «смеются», когда их щекочут, но сомневаюсь, чтобы они рассмеялись при виде толстой обезьяны, поскользнувшейся на кожуре банана и упавшей на задницу. Джейн Гудолл определенно никогда не сообщала, что шимпанзе устраивают друг для друга пантомимные сценки в духе Three Stooges или Кисто-на Копса. - как бы утверждение о том, что животным смех не доступен, что совершенно не верно и с точки зрения наблюдений за животными (юмор проявляют кошки, собаки, объеяны), так и механизмов психического явления "смех", у которого есть вполне определенное назначение. Ну и стоит сравнить это с интерпетацией автора ниже. Почему и каким образом развился у нас юмор — загадка, но любопытный случай Михи дал мне ключ к разгадке.
Любая шутка или смешной случай имеют следующую форму. Вы шаг за шагом рассказываете историю, ведя слушателя по очевидной дорожке ожидания, а затем внезапно вводите неожиданный поворот, кульминационный момент, соль рассказа, понимание которого требует полного переосмысления предыдущих событий. Но этого недостаточно: ни один ученый, чье теоретическое построение разрушено одним-единственным уродливым фактом, который повлечет за собой полный пересмотр теории, не посчитает такое забавным (уж поверьте мне, я пытался!). Резкий поворот в напряженном ожидании необходим, но недостаточен. Самый важный ингредиент состоит в том, что новая интерпретация должна быть непоследовательной стоит уточнить - ситуация должна распознаваться как игровая. Приведу пример. Ректор медицинского университета идет по тропинке, но как раз перед тем, как достичь пункта назначения, он поскальзывается на кожуре банана и падает. Если он при этом проламывает череп и кровь хлещет, вы бежите на помощь и вызываете скорую. Вы не смеетесь. Но если он поднимается невредимым, стряхивая кожуру со своих дорогих брюк, вы разражаетесь хохотом. Это называется грубым юмором. Ключевое различие состоит в том, что в первом случае имеет место действительно тревожная ситуация, требующая неотложного внимания. Во втором случае тревога ложная, и смехом вы информируете находящихся поблизости, что нет необходимости затрачивать ресурсы и спешить на помощь. Это природный сигнал «все в порядке». Необъясненным остался лишь легкий налет злорадства, присутствующий во всей этой ситуации.
Как же это объясняет смех Михи? В то время я этого не знал, но много лет спустя мне повстречалась другая пациентка, Дороти, со схожим синдромом «смех от боли». Снимок КТ (компьютерной томографии) выявил, что один из болевых путей в ее мозге был поврежден. опять - сломанный механизм, хотя боль в радость легко достигается нормальным механизмом осознанной оценки. Хотя мы и думаем о боли как о простом ощущении, на самом деле она многослойна. Первоначально ощущение боли обрабатывается в небольшой структуре под названием островок, расположенной глубоко под теменной долей в обоих полушариях мозга (см. рис. В.2). От островка болевая информация это еще не информация, сорри затем передается в переднюю часть поясной извилины в лобных долях. Именно здесь вы и начинаете чувствовать неприятное ощущение — все мучение и ужас боли — вместе с ожиданием опасности. Если этот путь оборван, как это было у Дороти и, как я предполагаю, у Михи, островок продолжает обеспечивать основное чувство боли. "островок" - всего лишь набор первичных распознавателей значимости, сами по себе они обеспечивают ощущение боли только при ассоциации с одним из субъективированных образов (восприятия-действия), хотя при их стимуляции способны придать такую значимость текущему осознаваемому образу точно так же как стимуляция превичных распознавателей зрительных примитивов вызывает осознание их в виде этих примитивов, но сами они никаких осознаваемых образов не обеспечивают, но это не ведет к предполагаемому ужасу и мучению: передняя часть поясной извилины не получает сообщения. Фактически она говорит: «Все в порядке». Таким образом, мы имеем две основных составляющих смеха: очевидное и неотвратимое указание на неизбежную тревогу, приходящее от островка, <за которым следует контролирующее указание «да это гроша ломаного не стоит» от неактивизированной передней части поясной извилины В итоге пациент разражается неконтролируемым смехом. Такие "объяснения" хороши в споре, когда нужно во что бы то ни стало убедить в своей идее, но они наносят прямой вред пониманию, когда предположения делаются слишком далеко от аксиоматичной базы. В данном случае порочное представление о функциональной задаче смеха используется для попытки хоть как-то объяснить почему боль может восприниматься со смехом. Ассоциации же оценок значимости, как было уже замечено ранее, - это адаптвность механизмами осознания, и они для данных условий могут оказаться различными по смыслу (значимости) до противоположности при одной и той же сенсорике.
То же самое относится и к щекотке. Огромный взрослый с угрожающим видом приближается к ребенку. Ребенок очевидно подавлен, он добыча, находящаяся в полной власти гигантского Грен-деля. Какая-то инстинктивная его часть — его внутренний примат, чье изначальное назначение — убегать от всяких ужасов, вроде орлов, ягуаров и питонов (о боже мой!) — не способна оценить ситуацию как-либо иначе. Но затем чудовище вдруг становится ласковым. И это влечет спад напряженного ожидания опасности. То, что должно было оказаться клыками и когтями, с жуткой неизбежностью впивающимися в его ребра, вдруг оказывается всего лишь сильно колеблющимися пальцами. И ребенок смеется. Вполне возможно, что щекотка развивалась в качестве ранней шутливой репетиции взрослого юмора. То, что такое "объяснение" порочно легко можно увидеть, если позволить себе замечать и те ситуации, в которых это до очевидности не так, например, когда котенок лижет пятку.
Теория ложной тревоги
объясняет происхождение грубого юмора, и легко понять, как в процессе эволюции
он мог быть использован (в качестве
экзаптации — как мы бы сказали в научной терминологии) для создания
когнитивного грубого юмора — проще говоря, шуток.
Когнитивный грубый юмор мог равным образом служить для того, чтобы вызывать
спад ложно вызванного чувства опасности, которое в ином случае
могло бы привести к напрасной трате ресурсов на преодоление воображаемых
опасностей очень притянутое
объяснение: зачем нужен такой спад в форме смеха? Об экономии ресурсов во чтобы
то ни стало это утверждение напоминает философствования С.Савельева. Действительно,
можно даже рискнуть сказать, что юмор помогает в качестве эффективного
противоядия против бессмысленной борьбы с предельной опасно![]() стью: постоянно
присутствующего страха смерти, присущего таким обладающим самосознанием
созданиям, как мы. Такое драматическое сгущение
красок становится не нужно, если проследить функциональное назначение смеха. Далее идут не менее философичные фантазии на тему зачем
нужна улыбка.
стью: постоянно
присутствующего страха смерти, присущего таким обладающим самосознанием
созданиям, как мы. Такое драматическое сгущение
красок становится не нужно, если проследить функциональное назначение смеха. Далее идут не менее философичные фантазии на тему зачем
нужна улыбка.
Ну и наконец, поразмыслим над таким человеческим универсальным приветственным жестом, как улыбка. Когда к одной человекообразной обезьяне приближалась другая, по умолчанию предполагалось, что приближается потенциально опасный чужак, так что она сигнализирует о своей готовности к битве, обнажая клыки в гримасе. Это получило дальнейшее развитие в ритуализированном притворном проявлении угрозы, агрессивном жесте, предупреждающем незваного гостя о возможном возмездии. Но если в приближающейся человекообразной обезьяне распознан друг, угрожающее выражение (обнажение клыков) прерывается на полпути, и эта частичная гримаса с наполовину спрятанными клыками становится выражением умиротворения и дружелюбия. Опять-таки — потенциальная угроза (атака) неожиданно обрывается, а это ключевая составляющая смеха. Неудивительно, что в основе улыбки лежит такое же субъективное ощущение, как и у смеха. Она основана на той же логике и может передаваться по тем же самым нейронным сетям. Не странно ли, что, когда ваша любимая улыбается вам, она на самом деле наполовину обнажает свои клыки, напоминая вам о своем животном происхождении.
Ну что ж, вот как обстоит дело: мы можем начать со странной загадки, как будто сошедшей со страниц Эдгара Аллана По, применить методы Шерлока Холмса, диагностировать и объяснить симптомы Михи и на десерт прояснить возможную эволюцию и биологическую функцию чрезвычайно ценного, но в высшей степени загадочного аспекта — человеческого разума.
ГЛАВА 2
Видеть и знать
«Вы видите, но не замечаете».
ШЕРЛОК ХОЛМС
Этa глава посвящена зрению. разумеется, глаза и зрение не присущи исключительно людям — никоим образом. На самом деле способность видеть столь полезна, что глаза эволюционировали в разных случаях много раз в истории жизни на земле. Глаза осьминога жутким образом похожи на наши, несмотря на тот факт, что последним нашим общим предком было слепое морское существо, похожее не то на слизняка, не то на улитку и жившее более полумиллиарда лет назад1. Глаза действительно не свойственны лишь нам, но процесс видения происходит не в глазе Вот! как и процесс осознания любого другого характера, в том числе и боли. Он происходит в мозге а точнее - на уровне субъективизации ощущений. На земле нет другого такого создания, которое видело бы объекты таким же образом, как мы. У некоторых животных острота зрения намного выше, чем у нас. Вы наверняка слышали, что орел может прочитать мелкий газетный шрифт с расстояния в пятнадцать метров. Правда, орлы не умеют читать.
Это книга о том, что делает людей особенными, и постоянно повторяющаяся в ней тема — что наши уникальные психические свойства, возможно, развились из ранее существовавших структур мозга. Мы начинаем наше путешествие со зрительного восприятия отчасти потому, что о его сложности известно намного больше, чем о каких-либо других функциях мозга, отчасти также и потому, что развитие зрительных областей мозга чрезвычайно ускорилось в эволюции приматов, достигнув кульминации у человека. Плотоядные и травоядные животные имеют, скорее всего, менее дюжины зрительных областей и не обладают цветовым зрением. То же самое относится и к нашим предкам — небольшим ночным насекомоядным, сновавшим по ветвям деревьев и не подозревавшим, что их потомки однажды наследуют — а возможно, и уничтожат! — всю землю. Однако у человека целых тридцать зрительных областей вместо какой-то дюжины. К чему же они? Тем более что баран спокойно обходится намного меньшим количеством.
Когда наши похожие на землероек предки стали вести дневной образ жизни, эволюционируя в полуобезьян и обезьян, они начали развивать сверхсложные зрительно-моторные способности для того, чтобы точно хватать и манипулировать ветками, хворостинками и листьями. Более того, смена рациона с маленьких ночных насекомых на красные, желтые и синие фрукты, а также на листья, чья питательная ценность имела цветовой код в различных оттенках зеленого, коричневого и желтого, послужила толчком для возникновения изощренной системы цветового зрения. Этот ценный аспект цветового восприятия мог впоследствии быть использован самками приматов, чтобы информировать о своей ежемесячной половой рецептивности и овуляции с помощью течки — бросающегося в глаза разбухания и окрашивания ягодичной области, становившейся похожей на спелый фрукт. (Эта особенность была утеряна человеческими самками, развившими способность к постоянной половой рецептивности на протяжении всего месяца — факт, который еще доступен для моего личного наблюдения.) На следующем витке эволюции, когда наши предки-приматы развили способность постоянно находиться в вертикальном положении на двух ногах, привлекательность набухших розовых ягодиц могла быть перенесена на пухлые губы. Есть искушение с лукавой улыбкой предположить, что наше пристрастие к оральному сексу, возможно, также отсылает нас на ту ступень эволюции, когда наши предки были плодоядными (поедателями фруктов). Какая лукавая мысль: а что, если наше восхищение Моне, или ван Гогом, или Ромео, смакующим поцелуй Джульетты, ведет в конечном итоге к древнему влечению к зрелым фруктам и задам? (Вот это и делает эволюционную психологию такой забавной: вы можете предложить совершенно нелепую сатирическую теорию и выйти совершенно сухим из воды.)
Да вдобавок к чрезвычайной подвижности наших пальцев у большого пальца человека развился уникальный седловидный сустав, позволяющий помещать его напротив указательного пальца. Это свойство, сделавшее возможным так называемый точный захват, может показаться незначительным, но оно весьма полезно для того, чтобы собирать фрукты, орехи и насекомых. Оно также весьма полезно для того, чтобы продевать нитку в иголку, обхватывать рукоятку топора, считать или показывать буддийский жест мира. Потребность в точном независимом движении пальцев, противопоставленном большом пальце и в точной координации глаз и рук— эволюция которой была приведена в движение весьма рано в генеалогии приматов — могла оказаться окончательным источником для такого давления отбора, который привел нас к развитию сложных зрительных и зрительно-двигательных областей мозга. Весьма сомнительно, что без них вы смогли бы послать воздушный поцелуй, писать, считать, бросать дротик, курить косяк или — если вы монарх — управляться со скипетром.
Связь между действием и восприятием особенно прояснилась в последнее десятилетие с открытием нового класса нейронов в лобных долях — так называемых канонических нейронов. Эти нейроны в некоторых отношениях подобны зеркальным нейронам, с которыми я вас познакомил в предыдущей главе. Подобно зеркальным нейронам, каждый канонический нейрон активизируется во время специфического действия, например, когда вы пытаетесь дотянуться до высокой ветки или яблока. Но тот же самый нейрон придет в активность просто при виде ветки или яблока. Другими словами, похоже что абстрактное свойство возможности быть взятым было закодировано в зрительной форме объекта как присущая ему черта. Различие между восприятием и действием существует в нашем обыденном языке, но это как раз то, что мозг, несомненно, не всегда принимает во внимание.
Подобно тому как граница между зрительным восприятием и хватательным движением становилась все более расплывчатой в ходе эволюции приматов, то же самое происходило с границей между зрительным восприятием и зрительным воображением в ходе эволюции человека. Обезьяна, дельфин или собака, возможно, и обладают какой-то рудиментарной формой зрительного воображения, но только люди могут создавать зрительные символы и жонглировать ими в уме, пытаясь получить новый образ то, что автор не обладает сведениями, показывающим наличие таких способностей у перечисленных тварей не дает ему права делать такие категорические утверждения, но он запросто утверждает это. Возможно, человекообразная обезьяна может вызвать в воображении образ банана или альфа-самца своего стада, но только человек способен жонглировать зрительными символами, чтобы создать совершенно новые комбинации, такие как дети с крыльями (ангелы) или полулюди-полулошади (кентавры) "новые комбинации" такие, каких не было раньше, человек не может создать творчески принципиально (каким-то механизмом), но он может регулировать порог срабатывания нейронов в области, где это позволяется усилиями расширения внимания, тем самым искуственно ассоциируя то, что ранее было за границами этого внимания в новый по входящим компонентам образ. Или порог может меняться под действием психотропных веществ. И то и другое возможно у других животных: осознанная регулировка широтой внимания - древний механизм, обслуживащий адаптивность посредством осознания. Так же животные могут поедать алкоголь-содержащие плоды. При этом они не воображают сугубо человечью атрибутику творчества, такие как ангелы или кентавры. У них - свое творчество. А само творчество необходимо для продуцирования новых вариантов поведения, см. Основные механизмы творчества. Такого рода воображение и жонглирование символами «в автономном режиме», в свою очередь, может потребоваться для другого уникального человеческого свойства, языка, за который мы возьмемся в шестой главе. Язык, точнее вербальные символы общения, так же присущи другим животным в их специфике коммуникации.
................
Классическое понимание зрения как постепенного и последовательного анализа образа, с увеличением сложности при продвижении, полностью разрушено с открытием стольких обратных связей. Какова задача этих обратных проекций, остается лишь гадать, но моя интуиция говорит мне, что на каждой стадии обработки информации, как только мозг добивается частичного разрешения «проблемы» восприятия, такой, как определение идентичности объекта, его местоположения или движения, это частичное решение тотчас отсылается обратно на ранние стадии. Повторяющиеся циклы такого возвратного процесса позволяют исключить тупиковые ситуации и ложные решения, когда вы смотрите на «зашумленные» зрительные изображения, такие, как замаскированные объекты (наподобие картинки, «спрятанной» на рис. 2.7)3. Другими словами, эти обратные проекции позволяют вам сыграть с изображением в нечто вроде «20 вопросов» (популярная игра, когда ведущий загадывает пред-

Рис. 2.7. Что вы видите? Похоже на случайные брызги черных чернил на первый взгляд, но если вы будете смотреть достаточно долго, то сможете разглядеть спрятанную за ними картину
мет, а участники должны угадать, задав 20 вопросов, на которые можно отвечать лишь «да» и «нет». — Ред.), предоставляя вам возможность быстро прийти к правильному ответу. Как будто бы каждый из нас все время галлюцинирует, и то, что мы называем восприятием, включало бы в себя просто выбор галлюцинации, наиболее соответствующей поступающей в настоящий момент информации. Конечно, это сильное преувеличение, но в нем есть большая доля истины. (А как мы увидим позднее, это может помочь объяснить наше восприятие искусства.)
Точный способ распознания объекта все еще большая загадка вовсе нет. принципы распознавания и формирование иерархии примитивных распознавателей достаточно изучены специалистами искусственных нейросетей (персептронных систем). Но сымсл распознавания (т.е. та значимость, которая соотвествует данному образу) зависит о текущих условий. Один и тот же набор признаков восприятия может ассоциироваться с разным смыслом в разных условиях. С каждым новым элементом в восприятии (при достаточной его значимости) активируется осознанное внимание к нему, и выработавшаяся новая оценка значимости во время пробного поведения ассоциируется с признаками новых условий [26], что корректирует отношение для новых условий. Обратные связи в области первичных распознавателей нужны для управления вниманием, выделения наиболее значимых признаков среди всего в восприятии. Они не участвуют непосредственно в функции распознавания потому как эти распознаватели давно уже получили свою специализацию в раннем критическом периоде развития данной зоны мозга. Контексты же восприятия, в которых виденному придается опредленный смысл - древний механизм уточнения значимости виденного в зависимости от условий, см. Контекст понимания. Каким образом нейроны, активизирующиеся, когда вы смотрите на объект, распознают в нем лицо, а не стул, например? Что является отличительными признаками стула? В современном дизайнерском мебельном магазине большая пластиковая клякса с ямочкой посередине распознается как стул. Может показаться, что важнейшим является назначение — нечто, позволяющее сидеть, — а не то, что у этой вещи четыре ножки или спинка. Каким-то образом нервная система интерпретирует акт сидения как синонимичный восприятию стула. Ну а если это лицо, каким образом вы тотчас распознаете человека, несмотря на то что вы на протяжении жизни видели миллионы лиц и сохранили соответствующие изображения в ваших блоках памяти?
Определенные свойства или характерные черты объекта могут стать кратчайшим способом его распознавания. Например, на рис. 2.8а изображен круг с завитушкой посередине, но видите вы зад свиньи. А на рис. 2.86 — четыре кружочка на двух прямых вертикальных линиях, но, как только я добавлю какие-нибудь детали, например когти, вы увидите медведя, карабкающегося на дерево. Эти картинки наводят на мысль, что определенные очень простые детали и характерные черты могут служить распознавательными маркерами для более сложных объектов, но они не отвечают на более важный вопрос — как выделяются и распознаются сами эти детали. Каким образом завитушка распознается как завитушка? Разумеется, завитушка на рис. 2.8а может быть только хвостом, учитывая общий контекст нахождения внутри круга. Если завитушка вне круга, никакого зада свиньи уже не просматривается. Это поднимает центральную проблему распознавания объектов, а именно каким образом зрительная система определяет отношения между свойствами и чертами объекта, чтобы его идентифицировать? Мы все еще слишком мало в этом разбираемся.
Проблема становится еще более острой, когда речь идет о распознавании лиц. Рис. 2.9а представляет собой схематическое изображение лица. Простое присутствие горизонтальных и вертикальных черточек заменяет изображение носа, глаз и рта, но только в том случае, если между ними соблюдены правильные взаимоотношения. У лица на рис. 2.96 сохранены те же самые признаки, что и на рис. 2.9а, но они перемешаны. Никакого лица не видно, если только вы, конечно, не Пикассо. Правильное расположение оказывается решающим.
Конечно, этим дело не исчерпывается. Как указал Стивен Кос-слин из Гарвардского университета, взаимоотношение черт (носа, глаз, рта в правильном соотношении) говорит вам только то, что это лицо, а не, скажем, собака или осел, но совершенно не говорит вам, чье именно это лицо. Чтобы распознать конкретное лицо, вам необходимо переключиться на измерение относительных размеров и расстояний между чертами. Выглядит так, словно ваш мозг создал общий шаблон для человеческого лица, сравнив между собой и усреднив тысячи виденных им лиц. Затем, когда вы сталкиваетесь с новым лицом, вы сравниваете его с шаблоном, то есть ваши нейроны математически высчитывают разницу между усредненным лицом и новым лицом. Конфигурация отклонений от усредненного лица становится специфическим образцом для нового лица. Например, в сравнении с усредненным лицом лицо Ричарда Никсона будет обладать носом картошкой и косматыми бровями. В сущности, вы можете преднамеренно преувеличить эти отклонения и получить карикатуру — лицо, которое будет больше похоже на Никсона, чем само лицо Никсона. Опять-таки, позже мы увидим, как все это имеет отношение к некоторым видам искусства.
Впрочем, мы должны отдавать себе отчет, что такие слова, как «преувеличение», «шаблон» и «взаимоотношения», могут внушить нам ложное чувство, будто мы объяснили намного больше, чем нам действительно удалось. Эти слова маскируют глубину нашего неведения. Нам неизвестно, каким образом нейроны в мозге совершают любое из этих действий. Тем не менее намеченная мною схема может обеспечить нам неплохой плацдарм для последующих исследований этого вопроса. Например, более двадцати лет назад ученые в области нейронауки открыли в височных долях обезьян нейроны, реагирующие на лица: каждый набор нейронов активизировался, когда обезьяна смотрела на определенное знакомое лицо, например лицо альфа-самца Джо или лицо Ланы, лучшей представительницы его гарема. В эссе об искусстве, опубликованном мной в 1998 году, я предсказал, что такие нейроны могут парадоксальным образом активизироваться в еще большей степени в ответ на преувеличенную карикатуру данного лица, чем в ответ на оригинал. Это предсказание увлекательным образом было подтверждено серией блестящих экспериментов, поставленных в Гарварде. Такие эксперименты важны, поскольку они помогут нам перевести чисто теоретические теории о зрении и искусстве в область более точных, проверяемых моделей функции зрения.
Распознавание предметов — очень важная проблема, и я высказал несколько предположений относительно стадий распознавания. Впрочем, само слово «распознавание» не сможет нам ничего сказать, пока мы не сможем объяснить, каким образом объект или лицо участвует в образовании смысла, основанного на том, какие именно ассоциации в памяти связаны с ними. Вопрос о том, каким образом нейроны кодируют смысл и вызывают все семантические ассоциации с объектом, является священным Граалем нейронауки, изучаете ли вы память, восприятие, искусство или сознание. Нейроны смысл не кодируют, а существует иерархия распознавателей значимости [15], как бы внутренняя рецепция значимости (упомянутый "островок"), которая при ассоциации с субъективизируемым образом придает ему эмоциональную состоавляющую - смысл, относящую к текущему более общему эмоциональму контексту.
Опять-таки, мы не знаем в действительности, отчего у нас, высших приматов, имеется такое большое количество особых зрительных областей, но создается впечатление, что все они специализируются на разных аспектах зрения, таких, как цветовое зрение, способность видеть движение и формы, распознавание лиц и т. д. Вычислительные стратегии у каждой из них могли сильно различаться, так что эволюция развивала нейронное аппаратное обеспечение мозга по отдельности.
Прекрасным примером этого может стать средняя височная (СВ) область, небольшой участок корковой ткани, находящийся в каждом полушарии мозга, который, по-видимому, в основном сосредоточен на способности видеть движение. В конце 1970-х годов женщина из Цюриха, которую я буду называть Ингрид, перенесла инсульт, повредивший СВ-области обоих полушарий мозга, но оставил незатронутой всю остальную часть мозга. В большинстве отношений ее зрение было совершенно нормальным: она могла читать газеты и распознавать людей и предметы. При этом у нее были огромные трудности со зрительным восприятием движения. Когда она смотрела на движущуюся машину, она казалась ей длинной последовательностью статичных фотоснимков, как будто она смотрит на нее в свете стробоскопа. Она могла прочитать номерной знак машины, сказать вам, какого она цвета, но у нее не создавалось никакого впечатления движения. Она боялась переходить улицу, потому что не могла определить, с какой скоростью приближаются машины. Когда она наливала воду в стакан, струя воды казалась ей неподвижной сосулькой. Она не понимала, когда нужно прекратить наливать воду, потому что не могла оценить скорость, с которой поднималась вода, так что она всегда переливалась через край. Даже разговор с людьми был, как она говорила, похож на «телефонный разговор», потому что она не видела движения губ. Жизнь стала для нее весьма необычным испытанием. Таким образом, похоже что СВ-области в основном отвечают за зрительное восприятие движения, а не за что-либо другое. Тому есть четыре доказательства.
Во-первых, вы можете записать данные отдельных нервных клеток в СВ-областях обезьяны. Их клетки сигнализируют о направлении движущихся объектов, но, очевидно, совершенно не интересуются ни их цветом, ни их формой. Во-вторых, вы можете использовать электроды для стимулирования крошечных групп клеток в СВ-областях мозга обезьян. Это заставляет клетки активизироваться, и у обезьян начинаются двигательные галлюцинации при включении тока. Нам это известно, потому что обезьяна начинает вращать глазами, отслеживая движущиеся объекты в зрительном поле. В-третьих, вы можете наблюдать за работой СВ-областей у людей-добровольцев при помощи сканирования мозга, например используя функциональную МРТ. При функциональной МРТ измеряются магнитные поля в мозге, образующиеся за счет изменений потока крови, когда объект наблюдения что-либо делает или смотрит на что-либо. В этом случае СВ-область активна, если вы смотрите на движущиеся объекты, и пассивна, когда вам показывают статичные изображения, цветовые карточки или напечатанные слова. И наконец, в-четвертых, вы можете использовать специальное устройство под названием транскраниальный магнитный стимулятор, чтобы на короткое время «оглушить» нейроны СВ-области мозга человека-добровольца, фактически создавая при этом кратковременное повреждение головного мозга. И — подумать только! — при этом подопытные на некоторое время становятся, подобно Ингрид, слепыми к различению движения, в то время как все остальные их зрительные способности остаются, по всей видимости, незатронутыми. Все вместе это может показаться избыточным для доказательства того единственного факта, что СВ-область является двигательной областью мозга, однако для науки никогда не вредно иметь несколько сходящихся путей, доказывающих одно и то же.
Более того, в височной доле также имеется область под названием V4, которая специализируется на обработке цветовой информации. Когда эта область повреждена в обоих полушариях мозга, весь мир выглядит обесцвеченным, словно черно-белый фильм. При этом прочие зрительные функции пациента остаются неповрежденными: он вполне способен воспринимать движение, распознавать лица, читать и т. д. И точно так же, как и с СВ-областями, вы можете получить схожие данные от исследования отдельных нейронов, сканирования мозга и непосредственной электрической стимуляции, доказывающие, что V4 — действительно «цветовой центр» мозга.
К сожалению, в отличие от СВ-областей и области V4 большая часть оставшихся примерно тридцати зрительных областей мозга приматов не раскрывают свои функции при повреждении, сканировании или искусственном отключении. Возможно потому, что они не столь узкоспециализированны, или их функции легче компенсируются другими областями мозга (подобно воде, обтекающей препятствие), или же, возможно, наши определения того, что составляет некую отдельную функцию, неясны (или «неправильно сформулированы», как говорят компьютерные специалисты). В любом случае в основе всей поразительной анатомической сложности лежит весьма простая организационная структура, что сильно помогает в исследовании зрения. Эта структура основана на разделении всего потока зрительной информации на отделенные или полуотделенные, параллельные пути (рис. 2.10).
Для начала рассмотрим два пути, по которым зрительная информация поступает в кору мозга. Так называемый старый зрительный путь начинается в сетчатке, передается через древнюю структуру в среднем мозге, называемую верхним бугорком, а затем через подушку таламуса передается в теменные доли (рис. 2.10). Этот путь сосредоточен на пространственных аспектах зрения — где находится объект, а не что он собой представляет. Старый зрительный путь позволяет нам ориентироваться среди объектов и отслеживать их глазами и поворотами головы. Если повредить этот путь у хомяка, появляется довольно странный вид зрения — тоннельное зрение, когда он видит и распознает только то, что находится непосредственно перед его носом.
Новый зрительный путь, который особенно сильно развит у людей и вообще у приматов, делает возможным довольно изощренный анализ и распознавание сложных зрительных сцен и объектов. Этот путь передает информацию от сетчатки в область VI, первую и самую большую из наших зрительных карт в коре мозга, а далее разделяется на два подпути, или потока: путь 1, часто также называемый потоком «как», и путь 2, или поток «что». Поток «как» (иногда называе-
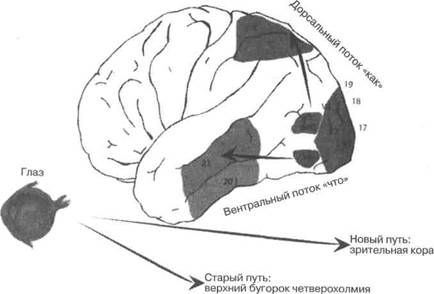
10. Зрительная информация с сетчатки попадает в мозг двумя путями. Один (называется старым путем) проходит через верхний бугорок четверохолмия и доходит до те-
менной доли. Другой (называемый новым путем) идет через латеральное коленчатое ядро к зрительной коре и затем расщепляется на поток «как» и «что»
мый поток «где») можно рассматривать как связанный с отношениями между объектами в пространстве, в то время как поток «что» связан с взаимоотношением признаков внутри самих объектов. Таким образом, функция потока «как» в какой-то степени совпадает с функцией старого зрительного пути, но он передает гораздо более сложные аспекты пространственного зрения — определение всего пространственного ландшафта зрительной картины, а не просто определение местоположения объекта. Поток «как» сообщает информацию в теменную долю и непосредственно связан с двигательной системой. Когда вы увертываетесь от брошенного в вас объекта, когда вы передвигаетесь по комнате, избегая столкновений с вещами, когда вы осторожно переступаете через ветку или яму, или когда вы протягиваете руку за каким-либо предметом, или парируете удар — во всем этом вы зависите от потока «как». Большая часть всех этих вычислений происходит неосознанно и автоматически, словно у вас имеется второй пилот — зомби или робот, — который следует вашим инструкциям, не требуя контроля над собой.
Прежде чем мы приступим к рассмотрению потока «что», я сперва упомяну весьма поразительный зрительный феномен «видящей слепоты». Он был открыт в конце 1970-х годов в Оксфорде Ларри Вайзкранцем. У пациента по имени Гай была существенно повреждена левая зрительная кора, отправная точка для обоих потоков «как» и «что». В результате он ничего не видел в правой части зрительного поля — по крайней мере, так казалось сначала. В ходе проверки неповрежденной области зрительного поля Вайзкранц попросил пациента дотронуться до небольшого светового пятна, которое, как он сказал Гаю, находилось справа от него. Гай возразил, что не может его увидеть и никакого пятна нет, но Вайзкранц попросил его все же попытаться. К его изумлению, Гай совершенно правильно нашел пятно и дотронулся до него. Гай настаивал, что всего лишь пытался предположить, где же пятно, и был весьма удивлен, когда узнал, что он безошибочно нашел его. Тем не менее повторные попытки лишь подтвердили тот факт, что это была отнюдь не случайная удача: палец Гая постоянно указывал на любую цель, без осознанного зрительного переживания того, где она и на что похожа. Вайзкранц дал этому явлению название «видящей слепоты» (англ. blindsight), чтобы подчеркнуть его парадоксальную природу. Чем мы можем его объяснить, не прибегая к экстрасенсорике? Как может человек определить пространственное положение предмета, которого не видит? Ответ лежит в анатомическом разделении старого и нового зрительного путей в мозге. Новый зрительный путь Гая, пролегающий через область VI, был поврежден, однако старый зрительный путь остался совершенно невредимым. Информация о местонахождении светового пятна беспрепятственно достигла его теменных долей, которые, в свою очередь, направили его руку в верном направлении.
Красивое объяснение феномена «видящей слепоты», оно широко распространено, однако порождает один весьма интригующий вопрос: значит ли это, что осознанное зрительное переживание связано только с новым зрительным путем? Когда новый зрительный путь заблокирован, как в случае с Гаем, осознание зрительной информации исчезает. С другой стороны, старый зрительный путь, очевидно, производит не менее сложные вычисления для того, чтобы управлять рукой, но при этом совершенно бессознательно. Это одна из причин, по которой я уподобил этот путь роботу или зомби. Но почему это так? В конце концов, это всего лишь два параллельных пути, состоящие из одинаковых нейронов, — отчего же лишь один из них связан с сознательным восприятием?
Действительно — отчего? Пусть этот вопрос останется в качестве наживки, и, поскольку тема осознания весьма обширна, мы отложим это для последней главы.
Теперь же мы рассмотрим второй путь, путь «что». Этот путь преимущественно связан с распознанием объектов и их значением. Это путь отправляется от области VI к веретенообразной извилине (рис. 3.6), а оттуда — к остальным частям теменных долей. Обратите внимание на то, что сама по себе веретенообразная область преимущественно сухо классифицирует объекты: отличает букву Р от буквы Q, ястреба от пилы, Джо от Джейн, но при этом не наделяет их никаким особым значением. Ее функция схожа с коллекционированием ракушек (конхологией) или бабочек (лепидоптерологией): классифицируют, помечают этикетками и размещают по индивидуальным неперекрывающимся ячейкам многие сотни образцов и при этом не испытывают необходимости знать о них что-либо еще (так оно приблизительно и есть, но не совсем — некоторые аспекты значения, возможно, передаются из высших центров в веретенообразную область).
Как только путь «что» от веретенообразной извилины доходит до других частей теменных долей, он вызывает к жизни не только имя вещи, но еще и массу находящихся в полутени воспоминаний и фактов, связанных с этой вещью, или, говоря широко, семантику, или значение объекта значение - вовсе не характерные признаки вещи, а связанное в ее восприятием в данных условиях эмоциональное отношение: отрицательное - блокирует то в поведении, что вызывало такое отношение, позитивное - стимулирует. У автора очень смутные представления о том, чем именно придается смысл воспринимаемому, что вообще такое смысл (значимость чего-то в данный момент в данных условиях для данной личности, в самом общем случае: что означает то, что оказалось в фокусе внмания в критериях хорошо-плохо). Именно это определяет направленность поведения как соотвестующее данному смыслу.). Вы не только распознаете лицо Джо как собственно Джо, но помимо этого вспоминаете все, что только может быть связано с ним: он женат на Джейн, у него извращенное чувство юмора, у него аллергия на кошек, он член вашей команды по боулингу. Возможность следовать за такими связанными ассоциациями зависит от границ внимания в данный момент осознания. Этот процесс извлечения семантической информации на самом деле описан процесс переключения внимания на ассоциированные прогностические мыслительные образы (не путать мыслительные автоматизмы и поведенческие) включает в себя весьма обширную активизацию теменных долей, но, по всей видимости, он сосредоточен на нескольких довольно узких «бутылочных горлышках», включающих в себя речевую область Вернике и нижнюю теменную дольку (НТД), которая принимает участие в такой специфически человеческой деятельности, как именование, чтение, письмо и счет эти области затрагиваются если внимание касается специфики распознавателей данных областей: можно сфокусироваться на зрительной составляющей образа, можно - на более абстрактной (символьной) вербальной. Как только в этих «бутылочных горлышках» извлекается значение, оттуда посылаются сообщения в миндалевидное тело, встроенное в переднюю часть теменных долей, чтобы пробудить эмоции в отношении того, что (или кого) вы видите вот тут и затрагивается смысловая часть воспринимаемого, точнее осознаваемого (субъективизированного образа) - в точности по схеме, описанной А.Иваницким для субъективизированного образа.
Судя по всему, помимо первого и второго путей4 существует еще один дополнительный, более основывающийся на рефлексии путь, отвечающий за эмоциональный отклик на видимые объекты, который я называю третьим путем. Если первые два пути назывались «как» и «что», этот можно было бы назвать «и что же». В этом пути информация о таких биологически важных стимулах, как глаза, пища, выражение лица и оживленное движение (например, походка и жестикуляция), проходит через веретенообразную извилину в область височной доли, называемую верхней височной бороздой (ВВБ), и затем непосредственно в миндалевидное тело5. Другими словами, третий путь не проходит через высокоуровневое осознание объекта, а также игнорирует весь богатый набор ассоциаций, возникающих на втором пути, а сразу же передает информацию в миндалевидное тело, ворота к эмоциональной части коры мозга — лимбической системе. Этот сокращенный путь, возможно, был развит для того, чтобы быстро реагировать на имеющие важное значение ситуации, независимо от того, врожденный он или приобретенный. Как-то не был упомянут гиппокамп, через который удерживается в активном состоянии образ и переключается к лобных долям в момент фокусировки внимания на нем для осознания. Все, что в данный момент не осознается из активных звеньев поведенческих автоматизмов (и, кстати, мыслительных тоже) протекает "быстро". Важность в таких цепочках остается на уровне отклика значимости, ассоциированного ранее при формировании данного автоматизма (получилось ли желаемое в результате попытки так действовать или нет - вот суть значимости, которая или блокирует или стимулирует).
Миндалевидное тело работает в тесной связи с накопленными ранее воспоминаниями и прочими структурами лимбической системы вот это уже прокол: в лимбической системе нет того, что можно осознанно вспомнить, нет цепочек мыслительных автоматизмов для того, чтобы оценить эмоциональную значимость значимость всегда только эмоциональна всего, что вы видите: это друг, или враг, или партнер? Это пища, или вода, или нечто опасное? Или это нечто совершенно обычное? описана работа прогностической оценки сознанием [33], а вовсе не самой значимостью. Если этот предмет незначим — например, это всего лишь бревно, пушинка, шелестящие от ветра деревья — вы ничего не почувствуете и, скорее всего, не обратите на него внимания не скорее всего, а точно, т.к в текущий фокус внимания попадает только то, что имеет наибольшую новизну и значимость на данный момент в данных условиях. Но если он имеет значение, вы сразу же что-нибудь почувствуете. Если это очень сильное чувство, сигналы из миндалевидного тела будут также направлены в гипоталамус (рис. 3), который не только управляет выделением гормонов, но к тому же активизирует автономную нервную систему, чтобы приготовить вас к выполнению соответствующего действия, будь то прием пищи, бой, бегство или ухаживание за сексуальным партнером. Эти спонтанные реакции включают в себя все возможные физиологические признаки сильной эмоции: повышенное сердцебиение, учащенное дыхание, потливость. Кроме того, миндалевидное тело у человека также имеет связи с лобными долями, которые придают коктейлю из указанных выше четырех базовых эмоций особые легкие оттенки, так что вы не просто чувствуете гнев, похоть или страх, но также высокомерие, гордость, осторожность, восхищение, великодушие и тому подобное Лобные доли сами по себе не придают эмоциональной окраски, хотя имет такие ассоциации, сформированные прежним опытом пробного поведения в режиме творческой выработки новых вариантов поведения для новых условий.
А теперь вернемся к Джону, нашему перенесшему инсульт пациенту, о котором мы вели речь в начале главы. Сможем ли мы объяснить хотя бы некоторые из его симптомов, основываясь на самой общей картине зрительной системы, которую я тут представил? Джон определенно не был слеп. Как вы помните, он мог сделать вполне точную копию гравюры собора Святого Павла, хотя и не мог распознать, что именно он рисует. Начальные стадии зрительного процесса остались неповрежденными, так что мозг Джона мог выделять линии и формы, а также определять взаимоотношения между ними. Однако важнейшее следующее звено в потоке «что» (веретенообразная извилина), пройдя сквозь которое зрительная информация вызывает распознавание, память и чувства, было изъято. Такое расстройство называется агнозией — термин был введен Зигмундом Фрейдом, и она означает, что пациент может видеть, но не знает, что именно видит. (Интересно, возникла бы у Джона эмоционально правильная реакция при виде льва, даже если он на уровне сознания и не мог бы отличить его от козы? Исследователи такого эксперимента не поставили. Хотя это могло бы подразумевать, что третий путь сохранен.)
Джон мог «видеть» объекты, дотягиваться и брать их, ходить по комнате и не натыкаться на препятствия, поскольку поток «как» в значительной мере не был поврежден. Действительно, любому человеку, наблюдающему, как Джон передвигается в пространстве, не пришло бы в голову, что его чувство восприятия было кардинальным образом расстроено. Вспомните — когда он вернулся из клиники домой, он мог подстригать живую изгородь ножницами и пропалывать цветник. И при всем этом он не мог отличить сорняки от цветов, распознавать лица и марки машин или отличить майонез от сливок. Симптомы, которые в другом случае выглядели бы странными и непостижимыми, теперь становятся понятными в свете обрисованной мной анатомической схемы — в которой множество зрительных путей.
Нельзя сказать, что пространственное чувство у Джона осталось совершенно незатронутым. Вспомните — он с легкостью мог взять отдельно стоящую чашку с кофе, но заполненный предметами буфет приводил его в замешательство. Это значит, что у него был нарушен процесс, который исследователи зрительного восприятия называют сегментацией: осознание того, какие фрагменты зрительной картины составляют единый объект. Сегментация является чрезвычайно необходимой начальной стадией процесса распознавания объекта, происходящего в потоке «что». Например, если вы видите голову и заднюю часть туловища коровы, выступающие по обе стороны ствола дерева, вы автоматически воспримете их как части целого животного — ваш разум без каких-либо сомнений заполнит недостающее. В действительности нам неизвестно, каким образом нейроны на ранних стадиях зрительного процесса столь легко выполняют связывание таких объектов. Очевидно, некоторые аспекты процесса сегментации у Джона были нарушены.
Кроме того, отсутствие у Джона цветового зрения предполагает, что нарушена была также и область, заведующая определением цвета, V4, которая, что неудивительно, располагается в той же области мозга, где распознаются лица, — в веретенообразной извилине. Основные симптомы Джона частично можно объяснить повреждением особых аспектов зрительной функции, но некоторые из них так объяснить нельзя. Один из самых интригующих симптомов проявился, когда его попросили нарисовать по памяти цветы. На рис. 2.11 показаны рисунки Джона, которые он уверенно подписал как розу, тюльпан и ирис. Обратите внимание, что сами рисунки хороши, но они
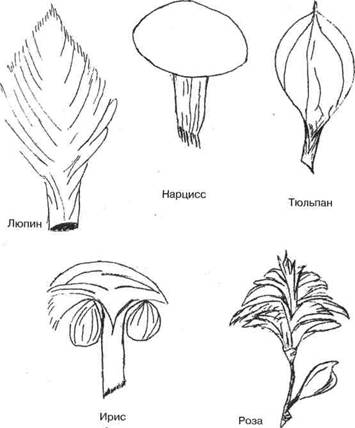
^Ис. 2.11. «Марсианские цветы». На просьбу нарисовать определенные цветы Джон нарисовал некие цветы вообще, даже не осознавая этого совершенно не похожи на какие-либо известные нам цветы! Такое впечатление, будто у Джона есть некое общее понятие о цветке, и, не имея доступа к памяти о реальных цветах, он нарисовал нечто, что можно назвать несуществующими марсианскими цветами.
Спустя несколько лет после возвращения Джона домой его жена умерла, и он переехал в дом престарелых, где и провел остаток жизни (умер Джон за три года до выхода этой книги в свет). В доме престарелых ему удавалось заботиться о себе — он почти все время проводил в небольшой комнате, где все было устроено так, чтобы облегчить ему распознавание предметов. К сожалению, как мне сообщил его врач Глен Хэмфрис, он все еще терялся, когда выходил за ее пределы, — и однажды даже совершенно заблудился в саду. Однако, несмотря на все трудности, он все время проявлял силу духа и мужество, сохраняя их до конца жизни.
Симптомы Джона довольно странные, но не так давно мне пришлось столкнуться с пациентом, которого звали Дэвид, и у него наблюдался еще более странный симптом. Его проблема состояла не в распознавании лиц и объектов, а в эмоциональной реакции на них, что является последней ступенью в цепи событий, называемой восприятием. Я описывал его случай в моей предыдущей книге, Phantoms in the Brain. Дэвид был студентом одной из учебных групп, в которой я преподавал, а затем он попал в автокатастрофу и две недели находился в коме. Выйдя из комы, за несколько месяцев он весьма серьезно поправился. Его мышление было ясным и живым, у него не было проблем с вниманием, он понимал, что ему говорили. Кроме того, он мог вполне свободно говорить, писать и читать, хотя его речь и была несколько скомканной. В отличие от Джона у него не было проблем с распознаванием людей и объектов. Однако у него появилась довольно стойкая бредовая идея. Всякий раз, когда он видел свою мать, он говорил: «Доктор, эта женщина выглядит в точности как моя мать, но это не она — это самозванка, притворяющаяся моей матерью».
Точно такая же бредовая идея у него была и в отношении отца, но не в отношении всех остальных людей. Дэвид страдал тем, что сейчас называется синдромом Капгра (или бредом Капгра), названным по имени врача, впервые описавшего его. Дэвид был первым пациентом, страдающим таким синдромом, которого мне пришлось наблюдать, и я изменил свое скептическое отношение в отношении синдрома. В течение многих лет меня учили с подозрением относиться к странным синдромам. Большинство из них вполне реальны, но иногда приходится читать о каком-нибудь синдроме, который представляет собой не более чем плод тщеславия психиатра или невролога — попытку самым легким способом заслужить славу, назвав болезнь своим именем или получив лавры первооткрывателя.
Однако, понаблюдав за Дэвидом, я убедился, что синдром Капгра действительно имеет место быть. Но что могло вызвать столь странный бред? Одна из интерпретаций, все еще встречающаяся в старых учебниках по психиатрии, основана на фрейдизме. Это объяснение выглядит следующим образом: возможно, Дэвид, как и всякий мужчина, в детстве испытывал сильное сексуальное влечение к матери, что называется эдиповым комплексом. К счастью, когда он вырос, кора стала господствовать над первобытными эмоциональными структурами и стала подавлять или ослаблять эти запретные сексуальные импульсы, направленные на мать. И возможно, при травме головы повредилась кора — прекратив процесс подавления и позволив спящим сексуальным влечениям проникнуть в сознание. Нежданно-негаданно Дэвид обнаружил, что его сексуально влечет к матери. Возможно, что единственным способом рационально избавиться от этого чувства было предположить, что она на самом деле не его мать. Отсюда и бредовая идея.
Это весьма изобретательное объяснение, но оно никогда не казалось мне достаточно разумным. Так, вскоре после Дэвида мне пришлось встретиться с другим пациентом, Стивом, у которого та же самая бредовая идея возникла относительно его любимца пуделя! «Эта собака выглядит точь-в-точь как Фифи, — говорил он, — но это не она. Она просто выглядит как Фифи». Ну и как теория Фрейда объяснит такое? Придется утверждать, что у всех мужчин в бессознательном таится латентная зоофилия, или что-нибудь столь же абсурдное.
Получается, что единственным верным объяснением будет анатомическое (по иронии, сам Фрейд весьма метко говорил, что анатомия — это судьба). Как уже было указано ранее, вначале зрительная информация направляется в веретенообразную извилину, где происходит различение объектов, включая и лица. Полученные результаты передаются из веретенообразной извилины по третьему пути в миндалевидное тело, которое осуществляет эмоциональную проверку вещи или лица и вырабатывает соответствующую эмоциональную реакцию вот здесь попутана причина и следствие. Эмоциональный фон задает контекст распознавания [106], а не по распознанным объектам внимания формируется этот фон, хотя определенные сочетания признаков восприятия могут и переключить эмоциональный стиль реагирования. Что же касается конкретной поведенческой (включая осмысление) реакции на воспринимаемое, то она строится на основе ранее возникших сочетаний признаков восприятия с признаками системы значимости, что и определяет направленность поведенческих реакций [14].. Так что же произошло с Дэвидом? Мне пришла в голову мысль, что в результате автокатастрофы были повреждены волокна, связывающие веретенообразную извилину, частично через верхнюю височную борозду, с миндалевидным телом, в то время как обе эти структуры, а вместе с ними и второй путь, остались совершенно неповрежденными. Поскольку второй путь (а следовательно, и способность говорить) не был поражен, он все еще мог распознать лицо матери согласно его облику и помнил все, что касалось ее. Поскольку миндалевидное тело и остальная часть лимбической системы не были поражены, он мог проявлять положительные и отрицательные эмоции как всякий нормальный человек. Между тем сама связь между восприятием и эмоциями была разорвана, так что лицо матери совсем не вызывало предполагаемых теплых чувств. Другими словами, узнавание наличествует, а ожидаемая эмоциональная встряска отсутствует. Очевидно, единственный способ, с помощью которого мозг Дэвида мог разрешить это затруднение, состоял в том, чтобы рационально его устранить, предположив, что его мать — самозванка6. Это покажется крайней степенью рационализации, но, как мы увидим в последней главе, мозг ненавидит противоречия любого рода, и иногда неестественно абсурдный бред является единственным выходом из ситуации.
Преимущество нашей неврологической теории над фрейдовской заключается в том, что ее можно проверить экспериментально. Как мы уже выяснили ранее, когда вы видите что-либо вызывающее эмоции — тигра, возлюбленного или маму, — миндалевидное тело посылает в гипоталамус сигнал, что необходимо подготовить ваше тело к какому-либо действию вот! именно ассоциация с эмоциональной оценкой при научении в какой-то ситуации (условиях) дает направленность поведенческой активности в виде сформировавшегося автоматизма.. Такая реакция типа «сражайся—беги» работает не по принципу «включено—выключено», а проявляется постоянно. Эмоциональное переживание низкой, средней или высокой степени автоматически вызывает реакцию низкой, средней или высокой степени соответственно. Частью такой непрерывной автоматической реакции на переживание является микроскопическое потоотделение. Все ваше тело, включая ладони, становится более влажным или более сухим в зависимости от повышения или понижения уровня эмоциональной возбужденности в любой момент времени.
Это отличные новости для нас, ученых, поскольку это означает, что мы можем измерять вашу эмоциональную реакцию на разные вещи, которые вы видите, просто отслеживая уровень микроскопического потоотделения. Это можно сделать, просто прикрепив к вашей коже два пассивных электрода и подключив их к устройству под названием омметр, чтобы наблюдать за вашей кожно-гальванической реакцией (КГР), постоянными колебаниями электрического сопротивления вашей кожи (КГР еще называют реакцией проводимости кожи, РПК). Таким образом, когда вы видите рыженькую красотку или отвратительную медицинскую иллюстрацию, ваше тело выделяет пот, сопротивление кожи падает, и у вас высокая КГР. С другой стороны, если вы видите что-то совершенно нейтральное, вроде дверной ручки или незнакомого лица, у вас нет КГР (хотя, согласно фрейдовскому психоанализу, дверная ручка очень даже должна вызвать КГР).
Теперь вы можете задаться вопросом, зачем нам нужен довольно сложный процесс измерения КГР для наблюдения за эмоциональным возбуждением. Почему просто не спросить человека, какие чувства у него вызывает тот или иной предмет? Ответ состоит в том, что между стадией эмоциональной реакции и ее словесного выражения пролегает довольно много пластов довольно сложной обработки информации, поэтому то, что вы получаете в итоге, — это переосмысленное или даже подвергшееся цензуре сообщение. Например, если человек является тайным гомосексуалистом, он может отрицать свое эмоциональное возбуждение при виде танцора труппы «Чип-пендейлз». Но его КГР не может лгать, потому что человек не может его контролировать. (КГР — один из физиологических процессов, используемых в работе полиграфа, или так называемого детектора лжи.) Это совершенно безошибочный способ узнать подлинные эмоции, в отличие от высказываемой лжи. Можете верить или нет, но у всех нормальных людей КГР зашкаливает, когда они видят фотографию своей матери, — им совершенно не обязательно для этого быть евреями!
Основываясь на этих рассуждениях, мы измерили КГР Дэвида. Когда мы быстро сменяли перед ним фотографии с нейтральными предметами, вроде стульев или столов, у него не было КГР. Не было и когда мы ему показали фотографии с незнакомыми ему лицами, ведь он был совершенно незнаком с ними. Пока что ничего особенного. Но когда мы показали ему фотографию матери, у него снова не было КГР. С нормальными людьми такого никогда не происходит. Это наблюдение дало потрясающее подтверждение нашей теории.
Но если это так, почему Дэвид не называет самозванцем, например, своего почтальона, исходя из предположения, что он был знаком с почтальоном еще до аварии? В конце концов, нарушение связи между зрением и эмоциями равным образом применимо и к почтальону, а не только к матери. Разве это не должно было породить такой же симптом? Ответ заключается в том, что его мозг не ожидает сильной эмоциональной встряски при виде почтальона. Ведь ваша мать — это ваша жизнь, а почтальон — всего лишь один человек в ряду прочих.
Другой парадокс заключался в том, что у Дэвида не было бредовой идеи подмены, когда его мать разговаривала с ним по телефону из соседней комнаты.
«А, мама! Очень рад тебя слышать. Как ты?» — говорил он.
Что моя теория скажет на это? Как может человек галлюцинировать, когда видит свою мать лично, но не когда она звонит ему по телефону? На это имеется очень изящный ответ. Дело в том, что от слуховых центров мозга (слуховой коры) в миндалевидное тело проходит анатомически отдельный путь. У Дэвида этот путь не был поврежден, поэтому голос матери пробуждал у него как раз те сильные положительные эмоции, какие и ожидались. В этот раз для бредовой идеи не было необходимости.
Вскоре после того, как наши данные о случае Дэвида были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society of London, я получил письмо от пациента по имени мистер Тернер, жившего в Джорджии. Он утверждал, что после травмы головы у него развился синдром Капгра. Как он заявил, ему понравилась моя теория, потому что теперь он понял, что он не сумасшедший и не теряет рассудок, для его странных симптомов нашлось превосходное логическое объяснение, и он попытается, если получится, эти симптомы преодолеть. Однако он добавил, что более всего его тревожила не бредовая идея подмены, а тот факт, что он больше не мог наслаждаться зрительными картинами — прекрасными пейзажами и цветниками, — которые до несчастного случая доставляли ему огромное удовольствие. Также он больше совершенно не мог получать удовольствие от великих картин, как было раньше. Понимание того, что это было вызвано нарушением связи в мозге, совершенно не возродило в нем влечение к созерцанию цветов или шедевров искусства. Это заставило меня задуматься — а не лежат ли эти связи в основе нашего наслаждения искусством? Можно ли заняться изучением этих связей в процессе исследования нейробиологической основы нашего эстетического отклика на прекрасное? Я вернусь к этому вопросу, когда в главах 7 и 8 мы будем обсуждать нейрологию искусства.
В последний раз отвлечемся на эту странную историю. Была поздняя ночь, и я спал, когда зазвонил телефон. Я проснулся и посмотрел на часы: было четыре часа утра. Это был адвокат. Он звонил из Лондона и, похоже, не обратил внимания на разницу во времени.
«Это доктор Рамачандран?»
«Да», — сонно пробормотал я.
«Меня зовут мистер Уотсон. Мы занимаемся случаем, относительно которого хотели бы услышать ваше мнение. Не могли бы вы вылететь и осмотреть пациента?»
«В чем вообще дело?» — сказал я, пытаясь скрыть раздражение.
«Мой клиент, мистер Доббс, попал в автокатастрофу, — сказал он. — Несколько дней он был без сознания. Когда он очнулся, он почти полностью пришел в норму, за исключением того, что у него были небольшие затруднения с подбором правильного слова во время разговора».
«Что же, счастлив это слышать, — ответил я. — Небольшое затруднение с подбором правильного слова совершенно обычная вещь после повреждения мозга, причем не важно, где именно был поврежден мозг». Возникла пауза. Поэтому я спросил: «Что я могу для вас сделать?»
«Мистер Доббс — Джонатан — желает возбудить дело против людей, чья машина столкнулась с его машиной. Вина совершенно очевидно лежит на противоположной стороне, поэтому их страховая компания собирается выплатить Джонатану материальную компенсацию за повреждение машины. Однако у нас, в Англии, законодательство весьма консервативно. Врачи дали заключение, что физически он в норме — его МРТ в порядке, нет никаких неврологических симптомов или других телесных повреждений. Поэтому страховая компания собирается оплатить только повреждение машины, но не медицинские издержки».
«Так».
«Проблема состоит в том, доктор Рамачандран, что он утверждает, будто у него развился симптом Капгра. Даже когда он твердо понимает, что смотрит на свою жену, она часто кажется ему незнакомцем, совершенно новым человеком. Это очень сильно его беспокоит, и он желает отсудить у противоположной стороны миллион долларов за причинение постоянного нервно-психиатрического расстройства».
«Пожалуйста, продолжайте».
«Вскоре после несчастного случая кто-то обнаружил вашу книгу Phantoms in the Brain на кофейном столике моего клиента. Он признал, что читал ее, и именно тогда понял, что у него, возможно, развился синдром Капгра. Но даже когда он смог сам себе поставить диагноз, это не слишком ему помогло. Симптомы остались такими же. Поэтому мы с ним хотим отсудить у противоположной стороны миллион долларов за возникновение постоянного неврологического симптома. Он опасается, что все может закончиться разводом с женой. Так вот, доктор Рамачандран, проблема в том, что адвокат противоположной стороны утверждает, что мой клиент просто все сфабриковал после прочтения вашей книги. Ведь, если подумать, синдром Капгра очень легко симулировать. Мистер Доббс и я хотели бы, чтобы вы прилетели в Лондон, провели тест на КГР и доказали в суде, что у него действительно синдром Капгра, а он не симулянт. Я так понимаю, этот тест невозможно подделать».
Этот адвокат неплохо подготовился. Но у меня совершенно не было желания лететь в Лондон лишь для того, чтобы провести тест.
«Так в чем проблема, мистер Уотсон? Если мистер Доббс каждый раз рассматривает свою жену как незнакомую новую женщину, он должен все время считать ее привлекательной. Это совсем не плохо, а даже очень хорошо. Всем бы нам быть такими счастливчиками!» Единственным моим оправданием за столь безвкусную шутку было то, что я еще не вполне проснулся.
На другом конце провода воцарилось долгое молчание, а затем я услышал, как он положил трубку. Больше я никогда о нем не слышал. Не все могут воспринять мое чувство юмора.
..........................
ГЛАВА 3
Кричащий цвет и горячая детка: синестезия
«Вся моя жизнь — сплошное усилие убежать от обыденности существования. Эти маленькие задачки помогают мне это сделать».
ШЕРЛОК ХОЛМС
Каждый раз, когда Франческа закрывает глаза и дотрагивается до чего-нибудь, она испытывает яркую эмоцию. Джинса — глубокая печаль. Шелк — умиротворенность и покой. Апельсиновая корка — шок. Воск — замешательство. Иногда она чувствует тончайшие оттенки эмоций. Прикосновение к наждачной бумаге с зерном № 60 вызывает чувство вины, а с зерном № 120 — «будто говоришь ложь во спасение».
А Мирабель ощущает цвет всякий раз, когда видит цифры, даже если они напечатаны черным шрифтом. Вспоминая номер телефона, она представляет спектр цветов, соответствующих цифрам в ее мысленном представлении, и начинает считывать одну цифру за другой, исходя из тех цветов, что она видит. Это сильно облегчает ей запоминание телефонных номеров.
Когда Эсмеральда слышит ноту до диез, извлекаемую из фортепиано, она видит синий цвет. Другие ноты отчетливо вызывают в ее воображении другие цвета — настолько непохожие друг на друга, что разные клавиши фортепиано в действительности являются для нее разными закодированными цветами, позволяющими легко запомнить и сыграть музыкальные партии.
Эти женщины не сумасшедшие и не страдают неврологическими расстройствами. У них, как и у миллионов других нормальных людей, синестезия — сюрреалистическое смешение чувств, восприятия и эмоций. Синестеты (как называют таких людей) воспринимают обычный мир необычными способами, занимая удивительную «ничейную» территорию между реальностью и фантазией. Они ощущают цвета на вкус, видят звуки, слышат формы, ощущают эмоции тысячами различных сочетаний.
Когда я со своими коллегами-исследователями впервые столкнулся с синестезией в 1997 году, мы совершенно не представляли, как к этому подступиться. Но с тех пор доказано, что она — неожиданный ключ, открывающий нам понимание того, что делает человека человеком. Оказывается, что этот маленький причудливый феномен не только проливает свет на нормальный процесс обработки сенсорной информации, но и показывает извилистую дорогу, приводящую к наиболее загадочным аспектам нашего сознания, таким как абстрактное и метафорическое мышление. Синестезия может пролить свет на то, какие особенности строения человеческого мозга и генетические особенности лежат в основе важных аспектов творчества и воображения.
Когда я только собирался отправиться в это путешествие почти двадцать лет назад, у меня было четыре цели. Первая: показать, что синестезия реальна — эти люди не притворяются. Вторая: выдвинуть теорию о том, что именно происходит в их мозге и что отличает их от несинестетов. Третья: исследовать генетические предпосылки этого состояния. И четвертая, самая важная: исследовать вероятность того, что синестезия не просто забавная «ненормальность», а средство для понимания самых загадочных аспектов человеческого сознания, таких как язык, творчество, абстрактное мышление, которыми мы пользуемся столь непринужденно, что принимаем их как само собой разумеющееся. Наконец, в качестве дополнительного бонуса, синестезия может пролить свет на старые философские вопросы о квалиа — невыразимых свойствах чувственного опыта — и сознании.
В целом я доволен тем, как пошло наше исследование. Мы частично ответили на все четыре основных вопроса. И что еще более важно, нам удалось пробудить небывалый интерес к этому явлению, теперь существует целое направление в области синестезии, и по этой теме опубликовано множество книг.
Мы не знаем, когда впервые синестезия была зафиксирована как свойство человека, но похоже, что ее мог испытывать Исаак Ньютон. Зная о том, что высота звука зависит от длины волны, Ньютон изобрел игрушку — музыкальный аппарат, — который высвечивал вспышками на экране разные цвета для различных нот. Таким образом, каждая песня сопровождалась целым калейдоскопом цветов. Можно задуматься, не было ли это изобретение вдохновлено звуко-цветовой синестезией. Могло ли смешение ощущений в его мозге дать первоначальный толчок для его волновой теории цвета? (Ньютон доказал, что белый свет является смешением цветов, которые могут быть разделены с помощью призмы, причем каждому цвету соответствует особенная длина световой волны.)
Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина и один из самых колоритных и эксцентричных ученых Викторианской эпохи, положил начало первому систематическому исследованию синестезии в 1890-х годах. Гальтон сделал значительный вклад в развитие психологии, особенно по вопросу измерения интеллектуальных способностей. К несчастью, он при этом был ярым расистом; он помог становлению такой лженауки, как евгеника, чьей целью было «улучшить» человечество при помощи селекции, наподобие той, которая практикуется в племенном животноводстве. Гальтон полагал, что бедные бедны из-за ущербных генов, и поэтому им надо запретить размножаться в слишком большом количестве, иначе они возобладают и загрязнят генофонд поместного дворянства и богатых людей, подобных ему. Трудно сказать, отчего совершенно разумный человек придерживался таких взглядов, но интуиция подсказывает мне, что у него было неосознанное желание приписать свою славу и успех некой врожденной гениальности, вместо того чтобы признать роль случая и стечения обстоятельств (по иронии судьбы, сам он был бездетен).
Евгенические идеи Гальтона кажутся сейчас почти комическими, но это нисколько не умаляет его гения. В 1892 году Гальтон опубликовал короткую статью о синестезии в журнале Nature. Это была одна из самых малоизвестных его работ, но столетие спустя она пробудила во мне живейший интерес. Хотя Гальтон не был первым, кто заметил этот феномен, он был первым, кто описал его систематически и вдохновил людей исследовать его дальше. Его статья фокусируется на двух наиболее типичных типах синестезии: когда звуки вызывают цвета (зрительно-слуховая синестезия, «цветной слух») и когда цифры всегда кажутся окрашенными во внутренне присущие им цвета (цвето-буквенная синестезия). Он указал на то, что, хотя одна и та же цифра всегда вызывает переживания определенного цвета для одного и того же синестета, для разных синестетов ассоциации между цифрами и цветами различны. Другими словами, не все синесте-ты видят цифру 5 красной или цифру 6 зеленой. Для Мэри 5 всегда окрашена в синий, 6 — в пурпурный, а 7 — в бледно-зеленый. А для Сьюзен 5 — ярко-красная, 6 — светло-зеленая, а 4 — желтая.
Как же объяснить опыт этих людей? Они сумасшедшие? Может, у них просто сформировались очень живые ассоциации на основе детских переживаний? Или они просто очень поэтично выражаются? Когда ученые сталкиваются с такими аномальными явлениями, как синестезия, их первая реакция — замолчать и не замечать. Это отношение — свойственное многим моим коллегам — не такое глупое, как может показаться. Дело в том, что большинство из ряда вон выходящего — ложка, согнутая силой мысли, похищение инопланетянами, контакт с Элвисом Пресли — оказывается ложной тревогой, и для ученого вполне естественно быть осторожным и игнорировать подобное. Карьеры ученых и даже их жизни были положены на погоню за такими необычными явлениями, как поливода (гипотетическая форма воды, о которой говорится в псевдофизике), телепатия или холодный ядерный синтез. Так что я не удивлен тем, что несмотря на то, что мы знаем о синестезии больше сотни лет, она все время трактуется как курьез, потому что не создает «смысла».
Даже сейчас это явление часто отвергают, словно оно насквозь ложно. Когда я случайно касаюсь его в разговоре, меня немедленно прерывают. Мне приходилось слышать, например, такое: «Это что же, вы изучаете кислотных торчков?» или «Постойте! Что за бред!» — а также множество других решительных отказов обсуждать тему. К сожалению, даже врачи подвержены такому отношению к синестезии, а неведение врача — риск для пациента. Мне известен по крайней мере один случай, когда синестету был поставлен неверный диагноз «шизофрения» и были прописаны нейролептики для купирования галлюцинаций. К счастью, родители пациентки стали самостоятельно собирать информацию и наткнулись на статью о синестезии. Они обратили на синестезию внимание врача, и их дочери тотчас перестали давать лекарственные препараты.
Впрочем, было несколько исследователей, считавших синестезию реальным феноменом, включая невролога Ричарда Сайтовика, который написал о ней две книги: Richard Cytowic, Synesthesia: A Union of the Senses (1989) и Richard Cytowic, The Man Who Tasted Shapes (1993/2003). Сайтовик был первопроходцем, но при этом пророком, вопиющим в пустыне, и научное сообщество по большей части его игнорировало. Впрочем, теории, которые он выдвинул для объяснения синестезии, были довольно расплывчатыми. Он предполагал, что это что-то вроде эволюционной деградации к первобытному состоянию мозга, когда чувства еще не были четко разграничены и смешивались в эмоциональной коре мозга.
Идея о первобытном мозге с недифференцированными функциями показалась мне бессмысленной. Если мозг синестета действительно вернулся на более раннюю стадию развития, как в таком случае можно было бы объяснить отчетливость и точность опыта синестетов? Например, почему Эсмеральда неизменно воспринимает ноту до диез как синюю? Если Сайтовик прав, следовало бы ожидать, что чувства будут образовывать некое месиво.
Второе объяснение синестезии, которое иногда приходится слышать, заключается в том, что синестеты находятся во власти детских воспоминаний и ассоциаций. Возможно, они играли с магнитами на дверце холодильника, и при этом цифра 5 была красной, а 6 — зеленой. Возможно, ассоциации в их памяти ярки настолько, насколько вы можете очень живо вызвать в душе запах розы, вкус приправы «Мармит» или карри или весеннюю трель дрозда. Разумеется, эта теория совершенно не объясняет, отчего лишь некоторые люди сохраняют столь живую сенсорную память. Я точно не вижу цвет, когда смотрю на цифры или слышу музыкальные тона, и я сомневаюсь, что вы на это способны. Хотя я, может быть, и думаю о холоде, когда смотрю на изображение кубика льда, я конечно же не ощущаю его, сколько бы я в детстве ни имел дела со льдом и снегом. Пожалуй, я могу сказать, что чувствую тепло и пушистость, поглаживая кота, но я никогда не скажу, что прикосновение к металлу вызывает у меня чувство ревности.
Третья гипотеза заключается в том, что синестеты используют неясный, иносказательный язык метафор, когда они говорят о красном до диезе или колком на вкус цыпленке, так же как вы говорите о «кричащей» рубахе или «остром» на вкус чеддере. Сыр, в конце концов, мягок на ощупь, так что же вы имеете в виду, говоря, что он острый? Острый — это прилагательное, касающееся осязательных ощущений, так почему же вы без колебаний применяете его ко вкусу сыра? Наш обыденный язык переполнен синестетическими метафорами — горячая детка, плоский вкус, со вкусом одетый — так может быть, синестеты просто особенно одарены в этом отношении? Но подобное объяснение сталкивается с серьезным затруднением. Мы не имеем даже самой туманной идеи, как метафоры работают или как они представлены в мозге. Идея о том, что синестезия — всего лишь метафора, иллюстрирует одну из классических ошибок в науке: попытку объяснить одну тайну (синестезия) в терминах другой (метафора).
Так что я возвращаю проблему в ее исходное состояние и выдвигаю совершенно противоположный тезис. Я полагаю, что синестезия — это конкретный сенсорный процесс, чью неврологическую основу мы можем вскрыть, и что объяснение его может, в свою очередь, дать нам ключ для решения более глубокого вопроса о том, как метафоры отображаются в мозге и прежде всего — как мы развили способность брать их в расчет. Это не подразумевает, что метафора — просто форма синестезии; только понимание неврологической основы синестезии может помочь нам понять, что такое метафора. Итак, когда я решил предпринять свое собственное исследование синестезии, моей первой целью было установить, действительно ли это подлинный чувственный опыт.
В 1997 году аспирант моей лаборатории Эд Хаббард и я решили найти нескольких синестетов, чтобы начать наши исследования. Но как? Согласно большинству опубликованных исследований, вероятность была от одного из тысячи до одного из десяти тысяч. Той осенью я читал курс лекций университетской группе из трехсот студентов. Может быть, нам повезет? Итак, мы сделали объявление.
«Некоторые из вполне нормальных людей утверждают, что видят звуки или что определенные цифры всегда вызывают у них определенные цвета. Если кто-нибудь из вас испытывал такое, поднимите руки», — сказали мы группе.
К нашему разочарованию, ни одна рука не поднялась. Но чуть позже тем же днем, когда я болтал с Эдом в своем кабинете, постучали в дверь две студентки. У одной из них, Сьюзен, были потрясающе голубые глаза, несколько прядей в светлых кудрях выкрашены в красный цвет, серебряное кольцо на пупке и огромный скейтборд. Она сказала: «Я одна из тех, о ком вы говорили на занятии, доктор Рама-чандран. Я не подняла руку, потому что не хотела, чтобы все вокруг думали обо мне как о чокнутой или что-то в этом роде. Я даже не знала, что есть другие люди, такие как я, или что у этого есть название».
Приятно удивившись, мы с Эдом переглянулись. Мы попросили другую студентку прийти попозже и пододвинули Сьюзен кресло. Она прислонила скейтборд к стене и присела.
«С каких пор вы это испытывали?» — спросил я.
« О, с раннего детства. Но, мне так кажется, я тогда не обращала на это внимания. Но постепенно я осознала, что это и в самом деле ненормально, и я не обсуждала это ни с кем!.. Не хотела я, чтоб люди думали обо мне, что я сумасшедшая. До тех пор, пока вы не упомянули об этом на лекции, я не знала, что это имеет название. Как вы сказали, син... эс... что-то рифмующееся с анестезией?»
«Это называется «синестезия», — ответил я — Сьюзен, я хочу, чтобы вы описали мне свой опыт в деталях. Наша лаборатория особенно интересуется им. Что именно вы переживаете?»
«Каждую цифру я вижу в особом цвете. 5 — всегда имеет оттенок бледно-красного, 3 — синий, 7 — ярко-кроваво-красный, 8 — желтый, а 9 — бледно-зеленый».
Я схватил фломастер и блокнот, лежавшие на столе, и нарисовал большую цифру 7.
«Что вы видите?»
«Ну, это не совсем чистая семерка. Но она выглядит красной... я вам говорила об этом».
«Теперь я предлагаю вам хорошенько подумать, прежде чем вы ответите на следующий вопрос. Вы действительно видите красный? Или вы только думаете о красном, или эта цифра заставляет вас представить себе красный... как образ в памяти? Например, когда я слышу «Золушка», я вспоминаю молодую девушку, или тыкву, или кучера. Это то же самое? Или вы буквально видите цвет?»
«Это сложно описать. Это то, о чем я часто спрашиваю себя. Я полагаю, что я действительно вижу его. Цифра, которую вы нарисовали, для меня выглядит именно красной. Но я также вижу, что она на самом деле-то черная — или я бы сказала, что я знаю, что она черная. Так что в каком-то смысле это образ из памяти... Должно быть, я себе мысленно его представляю или что-то в этом роде. Но оно конечно же чувствуется совершенно иначе. Мне чувствуется, что я действительно вижу его. Это очень трудно описать, доктор».
«Очень хорошо, Сьюзен. Вы прекрасный наблюдатель, и это делает все, что вы сказали, ценным».
«Словом, одну вещь я вам могу сказать с уверенностью: это ничуть не похоже на тыкву, воображаемую при взгляде на картинку с Золушкой или при слове «Золушка». Я действительно вижу цвет».
Одна из первых вещей, которой мы обучаем студентов, — это умение выслушать пациента и тщательно составлять историю болезни. В 90 процентах случаев вы можете поставить непогрешимо точный диагноз, внимательно выслушав, обследовав физическое состояние пациента и проведя хитроумные лабораторные тесты, чтобы подтвердить вашу догадку (и повысить счета для страховой компании). Я задался вопросом, сработает ли такой подход для синестетов.
Я решил дать Сьюзен
несколько простых тестов и задать несколько вопросов. Например, действительно
ли она видела цифры, вызывающие переживание цвета? Или это было просто понятие
о цифре — идея числовой последовательности или даже количества? И если верно
последнее, с римскими цифрами возможен тот же фо
кус, или
только с арабскими? (Я бы называл их индийскими; они были придуманы в Индии в
1-м тысячелетии до н. э. и попали в Европу через арабов.)
Я нарисовал в блокноте большую римскую цифру VII и показал ей:
«Что вы видите?»
«Я вижу, что это семерка, но она выглядит черной — ни следа красного. Я всегда это знала. С римскими цифрами такого не происходит. Послушайте, доктор, а не доказывает ли это, что тут дело не в воспоминаниях? Потому что я знаю, что это семерка, но она тем не менее не производит ощущения красного цвета!»
Мы с Эдом поняли, что имеем дело с подающей надежды студенткой. Дело стало выглядеть так, что синестезия — это и в самом деле подлинный феномен восприятия, вызываемый действительным появлением цифры перед глазами, а не понятием о цифре. Но для этого все еще не хватало доказательств. Можем ли мы быть абсолютно уверены, что дело не в красной семерке, которую в детстве она видела на двери холодильника? Что, если я покажу ей черно-белые фотографии фруктов и овощей, которые (для большинства из нас) несут сильные цветовые ассоциации, основанные на памяти. Я нарисовал морковь, помидор, тыкву и банан и показал ей.
«Что вы видите?»
«Ну, я тут не вижу никаких цветов, если вы об этом. Я знаю, что морковь оранжевая и могу представить, что она такова, или вообразить ее оранжевой. Но я действительно не вижу оранжевый цвет тем способом, которым я вижу красный, когда вы показываете мне цифру 7. Это трудно объяснить, доктор, но это похоже вот на что: когда я вижу черно-белую морковь, я как бы знаю, что она оранжевая, но я могу ее вообразить любого нереального цвета, какого захочу, например синего. Это очень трудно для меня сделать с цифрой 7 — она для меня кричаще-красная! Слушайте, есть во всем этом хоть какой-то смысл?»
«Хорошо, — сказал я. — Теперь закройте глаза и покажите мне ваши ладони».
Кажется, она немножко испугана моей просьбой, но последовала инструкции. Тогда я нарисовал цифру 7 на ее ладони.
«Что я нарисовал? Ну-ка, давайте я повторю».
«Это семерка!»
« Она цветная ?»
«Нет, вовсе нет. Давайте я скажу по-другому: я изначально не вижу красного цвета, даже когда «чувствую», что это 7. Но, когда я зрительно представляю себе цифру 7, она выглядит окрашенной в красный цвет».
«Хорошо, Сьюзен, а что, если я скажу «семь» ? Ну-ка, попытаемся: «Семь, семь, семь».
«Сначала она не была красной, но затем я стала чувствовать красный... Сперва я начала представлять себе форму цифры 7, а затем я увидела красный — но не раньше».
Подчинившись внезапному порыву, я сказал:
«Семь, пять, три, два, восемь. Что вы увидели теперь, Сьюзен?»
«Боже мой... Это очень интересно. Я вижу радугу!»
«Что вы имеете в виду?»
«Ну, я вижу соответствующие цвета, разворачивающиеся передо мной наподобие радуги, с цветами, соответствующими цифрам, которые вы произносите вслух. Какая милая радуга».
«Еще один вопрос, Сьюзен. Посмотрите еще раз на рисунок цифры 7. Видите ли вы цвет точно в самой цифре, или он распространяется вокруг нее?»
«Я вижу его точно в самой цифре».
«Как насчет белой цифры на черной бумаге? Вот она. Что вы видите?»
« Она даже значительно более чистого красного цвета, чем черная цифра. Не знаю почему».
«Как насчет двузначных чисел?» — Я нарисовал жирное число 75 в блокноте и показал ей. Начнет ли ее мозг смешивать цвета? Или увидит совершенно новый цвет?
«Я вижу каждую цифру в соответствующем ей цвете. Но я это часто замечала сама. Только если цифры не стоят слишком близко друг к другу».
«Отлично, давайте попробуем. Вот, 7 и 5 очень близко друг к другу. Что вы видите?»
«Я по-прежнему вижу их в их цветах, но они как будто «борются» или нейтрализуют друг друга; они кажутся более тусклыми».
«А что, если я нарисую 7 чернилами неправильного цвета?»
Я нарисовал зеленую цифру 7 в блокноте и показал ей.
«фу! Отвратительно. Она раздражает, как будто что-то не так. Я, конечно, не смешиваю реальный цвет с тем цветом, что вижу в уме. Я вижу оба цвета одновременно, но это выглядит омерзительно».
Замечание Сьюзен напомнило мне то, что я читал в старых статьях о синестезии, а именно что переживание цвета было очень часто для этих людей окрашено эмоционально, и «неправильные» цвета могли вызвать сильное отвращение. Разумеется, у нас у всех определенные цвета связаны с эмоциями. Голубой кажется успокаивающим, красный возбуждает не так, связь - в зависимости от обстоятельств: один и тот же цвет в разных условиях может оказаться ассоциирован с разными отношением к нему, причем у разных людей по-разному. Может быть, тот же самый процесс происходит, по какой-то странной причине, у синестетов в преувеличенной форме? Что может сказать нам синестезия о связи между цветом и эмоцией у таких завораживающих нас художников, как Ван Гог и Моне?
Тут раздался нерешительный стук в дверь. Мы и не заметили, как пролетел час и что другая студентка по имени Бекки провела этот час за дверями моего кабинета. К счастью, она была весела, несмотря на то что ждала так долго. Мы попросили Сьюзен прийти на следующей неделе и пригласили Бекки войти. Выяснилось, что она тоже синестет. Мы повторили те же самые вопросы и провели с ней те же тесты, что и со Сьюзен. Ее ответы были поразительно похожи, с небольшими вариациями.
Бекки видела цветные цифры, но у нее они были не такими, как у Сьюзен. Для Бекки 7 была синей, а 5 — зеленой. В отличие от Сьюзен буквы алфавита были для нее окрашены в яркие цвета. Римские цифры, как и цифры, написанные на ее ладони, не производили никакого эффекта, значит, как и у Сьюзен, переживание цвета возникало вследствие зрительного представления цифры, а не понятия о цифре. Наконец, она видела тот же самый эффект радуги, что и Сьюзен, когда мы произнесли вслух ряд случайных чисел.
Именно там и именно тогда я понял, что мы очень близки к постижению сути этого феномена. Все мои сомнения рассеялись. Сьюзен и Бекки никогда до этого не встречали друг друга, и тот факт, что их сообщения были в высшей степени друг на друга похожи, не мог быть просто совпадением. (Позднее мы узнали, что существует довольно много разновидностей синестетов, поэтому нам очень повезло, что мы наткнулись на два очень схожих случая.) Но хотя я уже и был убежден в своей правоте, нам еще предстояло много поработать, чтобы собрать доказательства, достаточные для публикации. Понятно, устных замечаний и отчетов, основанных на анализе внутренних ощущений, недостаточно. Испытуемые, находясь в условиях лабораторного исследования, зачастую крайне внушаемы и могут бессознательно догадаться, что вы хотите от них услышать, и стараются угодить вам, сказав вам именно это. Более того, они иногда говорят двусмысленно или неясно. Что, например, мне было делать с весьма озадачивающим высказыванием Сьюзен: «Я действительно вижу красный цвет, но я также знаю, что он не красный — мне кажется, что я, очевидно, вижу его в своем сознании, как-то так...»
По своей сути ощущения субъективны и непередаваемы. Например, вы понимаете, что значит почувствовать трепетную красноту крыльев божьей коровки, но вы никогда не сможете описать эту красноту слепому человеку или даже дальтонику, который не отличает красный от зеленого. Кроме того, вы никогда не сможете со всей определенностью узнать, обладают ли другие люди таким же внутренним опытом восприятия красного цвета, как ваш собственный. Это делает несколько мудреным (мягко говоря) изучение восприятия других людей. Наука имеет дело с объективными данными, и поэтому любые «наблюдения», которые мы производим над субъективным чувственным опытом других людей, неизбежно бывают непрямыми и вторичными. Следовало бы отметить, что эти субъективные впечатления и исследования единичных случаев часто могут дать ключи к постановке более строгих экспериментов. В самом деле, большая часть великих открытий в неврологии была изначально основана на клинических исследованиях отдельных случаев (и их субъективных описаний) перед тем, как они были подтверждены на других пациентах.
Одной из первых «пациенток», которую мы начали систематически обследовать в поисках очевидных доказательств реальности синестезии, была Франческа, утонченная женщина 45 лет, которая наблюдалась у психиатра — легкая депрессия. Он прописал ей лоразепам и прозак, но, не зная, что делать с ее синестетическими переживаниями, обратился ко мне. Она была той самой женщиной (я говорил о ней раньше), которая утверждала, что с самого раннего детства испытывала живейшие эмоции, когда прикасалась к различным материалам. Но как мы можем проверить истинность ее заявлений? Возможно, она была просто очень эмоциональной особой и просто с большим удовольствием говорила об эмоциях, которые вызывают у нее разные предметы. Или у нее было «расстройство психики», и она просто хотела привлечь к себе внимание или чувствовать себя особенной.
Однажды днем Франческа пришла в лабораторию, увидев объявление в San Diego Reader. Сначала чашка чая и обмен обычными любезностями, а затем я и мой студент Дэвид Брэнг подсоединили ее к омметру, чтобы измерить КГР. Как мы знаем из второй главы, это устройство постоянно измеряет микроскопическое потоотделение, вызываемое колебанием уровня эмоционального возбуждения. Человек может на словах притворяться или даже подсознательно ввести себя в заблуждение относительно того, как и что вызывает в нем чувства, КГР же немедленно и автоматически все замечает. Когда мы измеряли КГР у рядовых испытуемых, которые прикасались к поверхностям с разной шероховатостью, таким как вельвет или линолеум, становилось очевидно, что они не испытывали никаких эмоций. Но с Франческой все обстояло иначе. Если материалы, как она говорила, вызывали у нее сильные эмоциональные реакции, такие, как страх, или тревога, или разочарование, то ее тело давало сильнейший всплеск КГР. Когда она прикасалась к материалам, которые вызывали у нее, по ее словам, чувство теплоты и расслабленности, изменения электрического сопротивления кожи не было. Поскольку невозможно подделать показания КГР вообще-то возможно и этому специально учатся всякие агенты..., это дало нам твердое доказательство того, что Франческа говорила правду.
Мы хотели быть абсолютно уверенными, что Франческа испытывала особенные эмоции, поэтому использовали дополнительную процедуру. Мы снова подключили ее к омметру и попросили следовать инструкциям на экране компьютера: какие из многочисленных объектов, лежащих перед ней на столе, она должна трогать и как долго. Мы сказали, что она будет одна в комнате, так как наше присутствие может нарушить процесс измерения КГР. Но за монитором стояла скрытая камера, о которой Франческа ничего не подозревала, чтобы записать выражение ее лица. Мы сделали это тайно, чтобы убедиться, что ее мимика была подлинной и спонтанной. После эксперимента мы попросили независимых экспертов-студентов оценить степень и качество выражений лица, таких как страх или спокойствие. Конечно, мы позаботились о том, чтобы оценщикам была неизвестна цель эксперимента и они не знали, какой предмет трогала Франческа в каждом конкретном случае. И снова мы установили прямое соответствие между субъективными оценками Франческой разных поверхностей и спонтанными выражениями ее лица. Да, было предельно ясно, что эмоции, о которых она говорит, были подлинными.
Мирабель, кипучая темноволосая молодая женщина, услышала краем уха разговор, который я вел с Эдом Хаббардом в кафе «Эспрессо Рома» в кампусе, в двух шагах от моей работы. Она вскинула брови — то ли от удивления, то ли от недоверия, не могу сказать.
Вскоре она пришла в нашу лабораторию добровольцем для эксперимента. Так же как для Сьюзен и Бекки, каждая цифра казалась для Мирабель окрашенной в определенный цвет. Сьюзен и Бекки при неформальном исследовании смогли убедить нас в том, что сообщали о своем опыте точно и верно. Теперь нам нужны были более точные подтверждения того, что Мирабель в самом деле видит цвет, как вы видите яблоко, а не просто видит в уме неясную картину цвета, как если бы вы представляли себе яблоко. Граница между «вижу» и «представляю» всегда признавалась призрачной в неврологии. Возможно, синестезия помогла бы нам провести границу между ними.
Я пригласил Мирабель присесть, но ей этого явно не хотелось. Ее взгляд метался по комнате, цепляясь за всевозможные старинные научные инструменты и окаменелости, лежащие на столе и на полу. Она была словно ребенок из поговорки, попавший в кондитерский магазин, когда ползала по всему полу, рассматривая коллекцию окаменелых рыб из Бразилии. Джинсы сползали с бедер, и я старался не глазеть на открывшуюся татуировку. Глаза Мирабель загорелись, когда она увидела длинную отполированную окаменелую кость, смахивающую на плечевую. Я предложил ей догадаться, что это. Она гадала: ребро, голень, берцовая кость? На самом деле это была приапова кость (кость пениса) вымершего моржа эпохи плейстоцена. Похоже, что этот редкий экземпляр был сломан посередине и еще при жизни животного зажил, повернувшись под углом, судя по мозолистому образованию. На линии слома был также заживший, покрытый мозолью след зуба; наверное, перелом был вызван укусом хищника или случился во время сексуального контакта. В палеонтологии, как и в нейронауке, есть своя детективная сторона, и мы болтали об этом два часа подряд. Время уходило. Пора возвращаться к синестезии.
Мы начали с простого эксперимента. Мы показали Мирабель белую цифру 5 на черном экране компьютера. Как и ожидалось, она увидела ее в цвете — цифра была ярко-красной. Мы заставили ее зафиксировать взгляд на маленькой белой точке посредине экрана. (Это называется точкой фиксации и удерживает взгляд от блуждания.) Затем мы стали постепенно удалять цифру все дальше и дальше от центральной точки, чтобы увидеть, повлияет ли это как-нибудь на цвет, который она вызывает. Мирабель заметила, что красный цвет становится заметно слабее, если цифра отодвигается, в конечном итоге становясь бледно-розовым. Это само по себе может показаться не слишком удивительным: цифра, находящаяся вне линии фиксации, видится в более тусклом цвете. Тем не менее этот факт сообщил нам кое-что важное. Даже находясь на самом краю зрительного поля, цифра была вполне узнаваема, даже если цвет был более бледным. Одним ударом этот результат доказал, что синестезия не может быть просто воспоминанием детства или метафорической ассоциацией1. Если цифра просто пробуждала воспоминание или идею цвета, почему тогда имело значение, в какой точке зрительного поля она находилась, хотя ее все еще можно было легко распознать?
Затем мы применили второй, более прямой тест, называемый «выступ», который применяется психологами, чтобы определить, действительно ли эффект относится к восприятию, а не к понятийному мышлению. Если вы взглянете на рис. 3.1, вы увидите наклонные линии посреди леса из вертикальных линий. Наклонные линии выступают, словно больной большой палец — они как бы выскакивают. Действительно, вы не только можете сразу выделить их из всей
группы, но также можете мысленно сгруппировать их и получить отдельную плоскость или пучок. Если вы это сделаете, вы легко сможете заметить, что группа наклонных линий образует в целом форму буквы X. Сходным образом на рис. 3.2 красные точки, рассредоточенные между зеленых точек (изображенные здесь как черные среди серых), весьма отчетливо выступают и образуют обобщенную форму треугольника.
Напротив, взгляните на рис. 3.3. Вы видите набор букв Т, рассредоточенных между буквами L, но, в отличие от наклонных линий и цветных точек в двух предыдущих рисунках, буквы Т не дают нам живого, автоматического («Вот он я!») эффекта выскакивания, несмотря на тот факт, что L и Т отличаются друг от друга не меньше, чем вертикальные линии от наклонных. Кроме того, вы не сможете сгруппировать буквы Т с той же легкостью, и вместо этого вам придется последовательно всматриваться в каждую фигуру. Из этого мы можем заключить, что только определенные «примитивные», или элементарные, свойства восприятия, такие как цвет и положение линии, могут обеспечить основу для группировки и эффекта «выступа» (англ. popout). Более сложные для восприятия символы, такие как графемы (буквы и цифры), не дают подобного эффекта, как бы они друг от друга ни отличались.
Рассмотрим последний пример: если я покажу вам лист бумаги, испещренный словами «любовь» и лишь с несколькими словами «ненависть», вставленными между ними, вам не сразу бросятся в глаза слова «ненависть». Вам придется искать их более-менее последовательно, одно за другим. И даже когда вы найдете их, они по-прежнему не будут «выскакивать» из фона, как это делают наклонные линии и точки. Это происходит потому, что лингвистические понятия, такие как «любовь» и «ненависть», не могут служить основой для образования зрительных групп, как бы они ни различались на понятийном уровне.
Ваша способность группировать и обособлять сходные свойства, возможно, развилась главным образом для того, чтобы раскрывать маскировку и обнаруживать в мире спрятанные объекты. Например, если лев прячется за колышущейся зеленой листвой, необработанная картина, воспринимаемая вашим глазом и поступающая на сетчат-
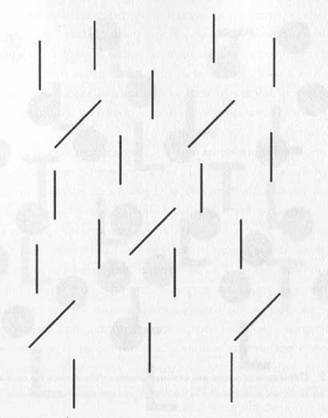 |
Рис. 3.1. Наклонные линии среди вертикальных линий легко узнаются, группируются и отделяются от прямых линий с помощью вашей зрительной системы. Этот тип разделения возможен только на основе признаков, выделенных на ранних стадиях обработки зрительной информации. (Вспомните главу 2, где трехмерные рисунки — «фигура-фон» — также предполагали выделение групп наблюдаемых объектов)
ку, является не чем иным, как пятнами желтоватого цвета, с промежутками зеленого. Так или иначе, это не то, что вы видите. Ваш мозг связывает вместе фрагменты рыжевато-коричневой шерсти, чтобы распознать всю форму целиком, и активизирует ваш зрительный образ, категорию льва (и сразу же сообщает об этом в миндалевидное тело!). Ваш мозг рассматривает как абсолютно нулевую возможность того, что все эти желтые лоскутки изолированы и независимы друг
106 МОЗГ РАССКАЗЫВАЕТ
КРИЧАЩИЙ ЦВЕТ И ГОРЯЧАЯ ДЕТКА: СИНЕСТЕЗИЯ 107
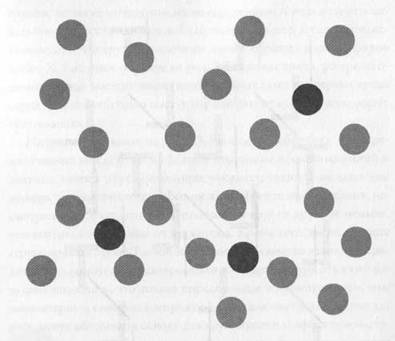
|
|
|
• |
Рис. 3.2. Пятна схожих цветов или оттенков можно сгруппировать без особых усилий. Цвет — это свойство, определяемое на ранних стадиях зрительного восприятия
от друга. (Вот почему рисунок или фотография льва, прячущегося за листвой, в которых цветовые пятна действительно независимы и не соотносятся друг с другом, все же заставляют вас «увидеть» льва.) Ваш мозг автоматически старается сгруппировать воспринимаемые признаки низшего уровня, чтобы посмотреть, не представляют ли они собой что-либо жизненно важное, вроде льва.
Психологи, занимающиеся восприятием, обычно используют эти эффекты, чтобы определить, является ли данное зрительное свойство основным, базовым. Если свойство образует у вас эффект «выступа» или группировки, значит, мозг выделяет его на ранней стадии обработки зрительной информации. Если же эффект «выступа» и группировка ослаблены или отсутствуют, значит, при отображении объектов обрабатываются сенсорные данные высшего порядка или даже понятий. Изображения букв L и Т обладают одними и теми же об-
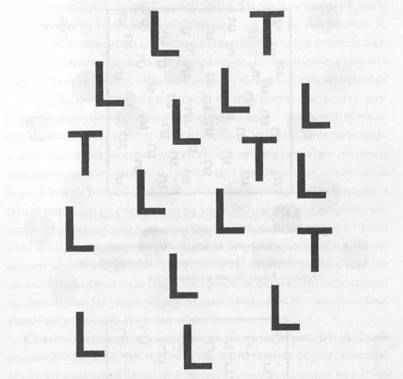 |
Рис. 3.3. Буквы Т нелегко определить или сгруппировать среди букв L. Возможно, потому, что и те и другие составлены из одних и тех же характеристик восприятия низшего уровня: вертикальных и горизонтальных линий. Различно только расположение линий (образуют в соединении прямой угол с одной стороны или с двух), а это не определяется на ранних стадиях зрительного восприятия
щими базовыми свойствами (одна короткая горизонтальная и одна короткая вертикальная черта, соприкасающиеся под прямым углом); основное, что позволяет нам различать их в уме, — это языковые и понятийные факторы.
Итак, вернемся к Мирабель. Мы знаем, что реальные цвета могут вести к группировке и эффекту «выступа». Могут ли ее «личные» цвета вызвать те же самые эффекты?
Чтобы ответить на этот вопрос, я сделал рисунки, похожие на рис. 3.4: лес из «прямоугольных» цифр 5 с редкими вставками
108 МОЗГ РАССКАЗЫВАЕТ
КРИЧАЩИЙ ЦВЕТ И ГОРЯЧАЯ ДЕТКА: СИНЕСТЕЗИЯ 109
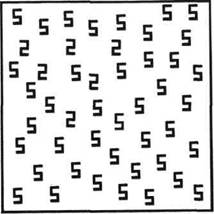
РИС. 3.4. Набор двоек беспорядочно рассыпан среди пятерок. Для обычных людей очень трудно определить фигуру, образуемую двойками, но даже слабые синестеты делают это гораздо лучше. Существование этого эффекта было подтверждено Джеми Уордом и его коллегами

РИС. 3.5. То же самое изображение, что и на рис. 3.4, за исключением того, что цифры по-разному затенены, и это позволяет обычным людям сразу же увидеть треугольник. Слабые синестеты («прожекторы») предположительно видят таким образом «прямоугольных» цифр 2 между ними. Поскольку цифры 5 являются попросту зеркальным отражением цифр 2, то они состоят из одинаковых элементов: две вертикальные линии и три горизонтальные. Когда вы смотрите на это изображение, вы не получаете эффекта «выступа»; вы можете выделить двойки, только внимательно, цифра за цифрой, рассматривая рисунок. И вы не сможете с легкостью разглядеть общую форму — большой треугольник, — мысленно группируя двойки; они просто не «выскакивают» из фона. Хотя вы можете в конечном итоге вывести логически, что двойки образуют треугольник, вы не увидите большой треугольник тем способом, которым вы видите его на рис. 3.5, где двойки окрашены в черный, а пятерки в серый цвет. Что же случится, если мы покажем рис. 3.4 девушке, которая утверждает, что ощущает двойку красной, а пятерку — зеленой? Если она просто думает о красном (и зеленом), как вы и я, она не сможет мгновенно увидеть треугольник. С другой стороны, если бы синестезия в самом деле была сенсорным эффектом низшего порядка, она смогла бы увидеть треугольник буквально тем же способом, каким вы и я видите его на рис. 3.5.
Сначала мы показали изображения, похожие на рис. 3.4, двадцати рядовым студентам и попросили их найти общую форму (которую образуют маленькие двойки) посреди общего беспорядка на рисунке. Иногда двойки составляли треугольники, иногда образовывали круг. Изображения выводились на экран компьютера в случайной последовательности, примерно на полсекунды каждое, что было слишком быстро для подробного рассматривания. Увидев каждое изображение, испытуемый должен был нажать одну из двух кнопок, чтобы обозначить, увидел он круг или треугольник. Неудивительно, что уровень правильных ответов у студентов составил 50 процентов; другими словами, они скорее просто гадали, поскольку не могли рассмотреть форму мгновенно. Но стоило нам окрасить все пятерки зеленым цветом и все двойки красным (на рис. 3.5 это серый и черный), как уровень верных ответов вырос до 80, а то и до 90 процентов. Теперь студенты могли увидеть форму мгновенно, без заминки или размышления.
Мы были поражены, когда показали черно-белые изображения Мирабель. В отличие от несинестетиков она смогла правильно определить скрытую форму в 80—90 процентах случаев — как будто цифры были действительно окрашены в разные цвета! Синестетически наведенные цвета были так же эффективны, как реальные, позволяя ей находить общую форму и говорить о ней . Этот эксперимент неопровержимо доказывал, что наведенные цвета Мирабель в самом деле исходят из ощущений. Просто не было способа, которым она могла бы это подделать, и ни в коем случае это не было результатом детских воспоминаний или других альтернативных причин, выдвигавшихся в качестве объяснения.
Эд и я поняли, что впервые со времен Фрэнсиса Гальтона мы получили ясное, недвусмысленное доказательство на основе наших экспериментов (группировка и «выступание»), что синестезия и в самом деле является феноменом восприятия — доказательство, в течение целого столетия ускользавшее от исследователей. Действительно, наши изображения можно использовать не только для того, чтобы отличить фальсификацию от реальной синестезии, но и для того, чтобы выявлять скрытых синестетов, людей, обладающих такой способностью, но не желающих признавать этого или не знающих об этом.
Мы с Эдом снова сидели в кафе, обсуждая наши открытия. В ходе наших экспериментов с Франческой и Мирабель мы установили, что синестезия существует. Следующий вопрос был такой: почему она существует? Может ли объяснить ее какой-нибудь сбой в мозговой системе? Что мы знаем такого, что поможет нам его определить? Во-первых, мы знали, что самый распространенный тип синестезии это видение цифр в цвете. Во-вторых, нам было известно, что один из главных цветовых центров в мозге — это область, называемая V4, в веретенообразной извилине височных долей. (V4 была открыта Се-миром Заки, профессором нейроэстетики Лондонского университетского колледжа и мировым авторитетом по части изучения организации зрительной системы у приматов.) В-третьих, мы знали, что примерно в той же самой части мозга могут быть области, отвечающие за числа. (Нам это известно, так как малейшие повреждения в этой части мозга лишали пациентов арифметических способностей.)
Я размышлял, не может ли цвето-цифровая синестезия быть обусловлена просто случайным «перекрещиванием» числового и цветового центров в мозге? Это казалось уж слишком очевидным, чтобы быть истинным, — впрочем, отчего бы и нет? Я предложил заглянуть в атласы мозга, чтобы точно определить, насколько близко эти области подходят друг к другу, чтобы действительно взаимодействовать друг с другом.
«Слушай, может, спросим Тима?» — отозвался Эд. Он обратился к Тиму Рикарду, нашему коллеге. Тим использовал мудреную технику для сканирования мозга, вроде функционального МРТ, чтобы составить карту зон головного мозга, где происходило визуальное узнавание цифр. Чуть позже днем мы с Эдом сравнили точное расположение области V4 и области, отвечающей за числа, используя атлас человеческого мозга. К нашему изумлению, мы увидели, что числовая область и область V4 находятся как раз рядом друг с другом в веретенообразной извилине (рис. 3.6). Сильный аргумент в пользу гипотезы «перекрещивания»! Неужели это просто совпадение, что самый обычный тип синестезии — это цвето-цифровой тип, а области, отвечающие за восприятие числа и цвета, — ближайшие соседи в мозге?
Так, здесь уже попахивало френологией XIX века, но вдруг так оно и есть? С XIX века идут яростные дебаты между френологией — которая считает, что различные функции четко локализованы в разных областях головного мозга — и холизмом, полагающим, что эти функции являются эмерджентными, то есть «собственностью» мозга в целом, чьи части постоянно взаимодействуют. Выяснилось, что это в определенной мере искусственное противопоставление, поскольку верный ответ на этот вопрос зависит от конкретной функции. Было бы странно утверждать, что умение играть в азартные игры или готовить имеют определенную локализацию в мозге (хотя некоторые их аспекты и в самом деле имеют), но было бы столь же глупо говорить, что кашлевой рефлекс или реакция зрачков на свет не локализованы. Что и впрямь удивительно, так это то, что даже некоторые нестереотипные функции, такие как восприятие цвета или цифр (как формы или как абстрактной идеи количества), и в самом деле опосредованы специальными отделами мозга. Даже восприятие высшего уровня —
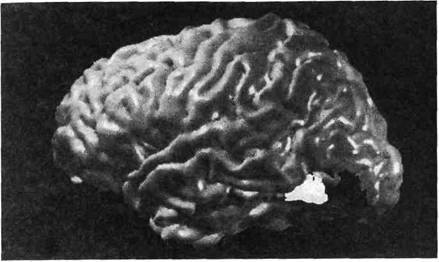
РИС. 3.6. Левое полушарие мозга и примерное расположение веретенообразной (фузи-формной) области: черным обозначена числовая область, белым — цветовая (схематически показано на поверхности мозга)
например, инструментов, овощей или фруктов, — имеющее отношение скорее к понятиям, чем к ощущениям, может быть утеряно в зависимости от того, какой именно маленький участок мозга поврежден в результате инсульта или несчастного случая.
Итак, что мы знаем об отделах мозга? Сколько там специализированных зон и как они расположены? Подобно тому как генеральный директор корпорации распределяет разные задачи между разными людьми, занимающими разные кабинеты, ваш мозг распределяет различную работу между разными отделами. Процесс зрительного восприятия начинается, когда нервные импульсы с вашей сетчатки отправляются в заднюю часть вашего мозга, где образ расчленяется на простейшие качества, такие как цвет, движение, форма и глубина. После этого информация о различных свойствах разделяется и распределяется между несколькими обширными зонами в височной и теменной долях. Например, информация о направлении движущихся целей приходит в область V5 теменной доли вашего мозга. Информация о цвете идет в основном в область V4 в вашей височной доле.
Причину такого разделения труда нетрудно отгадать. Вычисления, которые вам нужны для получения информации о длине волны (цвета), сильно отличаются от вычислений, требующихся для получения информации о движении. Все это намного проще выполнить, если для каждого задания есть своя зона и свои нейронные механизмы — вы экономите средства связи и облегчаете вычисления.
Также имеет смысл иерархически организовать специализированные области. В иерархической системе каждый «высший» уровень выполняет более сложные задачи, но, так же как и в корпорации, здесь появляется огромное количество обратной связи и перекрестных помех. Например, цветовая информация, обрабатываемая в V4, передается в высшие цветовые зоны, находящиеся далее в височных долях, возле угловой извилины. Эти высшие по иерархии зоны могут быть связаны с более сложными аспектами восприятия цвета. Я смотрю на листья эвкалипта в кампусе, и они кажутся примерно одного оттенка зеленого, хотя длина отраженной световой волны очень разнится в сумерках и в полдень. (Свет в сумерках красный, но ваш взгляд не выхватит вдруг ни с того ни с сего красно-зеленые листья, они все равно будут для вас зелеными, потому что высшие зоны цветового восприятия вашего мозга корректируют то, что вы видите.)
Очевидно, что операции с цифрами тоже происходят поэтапно: на первой стадии в веретенообразной извилине, где отображаются фактические очертания цифр, а на второй стадии — в угловой извилине, отвечающей за числовые понятия, такие как порядковость (последовательность) и количественность (величина). Когда угловая извилина повреждена вследствие инсульта или опухоли, пациент все еще может узнавать числа, но уже не способен выполнять деление или вычитание. (Умножение обычно не забывается, поскольку заучивается механически.) Именно этот аспект анатомии мозга — близость цветов и цифр в мозге как в веретенообразной, так и в угловой извилине, — заставил меня предположить, что цвето-цифровая синестезия обусловлена перекрестными помехами между этими двумя специализированными зонами мозга.
Но если перекрещивание информации в нейронной системе является правильным объяснением, почему оно вообще случается? Гальтон заметил, что синестезия передается по семейной линии, открытие это было много раз подтверждено другими исследователями. Тогда имеет смысл задаться вопросом, не имеет ли синестезия генетической основы. Возможно, синестеты являются носителями скрытой мутации, которая обуславливает некие отклоняющиеся от нормы связи, появляющиеся между прилегающими друг к другу мозговыми зонами, которые в нормальном состоянии изолированы друг от друга. Если эта мутация бесполезна или разрушительна, почему она не была отсеяна естественным отбором?
Кроме того, если об этой мутации можно говорить как о «перемычке», можно объяснить, почему некоторые синестеты «перекрещивают» цвета и цифры, в то время как другие, наподобие Эсмеральды, которую мне как-то довелось наблюдать, видят музыкальные тона в цвете. Соответственно, в случае с Эсмеральдой слуховые центры в височных долях очень близки к зонам мозга, получающим цветовые сигналы от зоны V4 и цветовых центров более высокого уровня. Я чувствовал, что все кусочки картины встают на свои места.
Тот факт, что мы наблюдаем различные типы синестезии, дает дополнительное подтверждение теории «перекрещивания». Возможно, ген-мутант проявляется в большей степени, в большем количестве отделов мозга у одних синестетов, чем у других. Но как именно мутация порождает «перекрещивание»? Мы знаем, что нормальный мозг не появляется в готовом виде с четко отделенными друг от друга и полностью укомплектованными областями. У плода первоначально наблюдается стремительное и избыточное образование множества связей, которые сокращаются при дальнейшем развитии. Одной из причин такого обширного обрывания межнейронных связей, возможно, является необходимость устранить утечку (распространение сигнала) между прилегающими зонами; так Микеланджело убирал лишний мрамор, чтобы явить миру своего «Давида». Этот процесс прерывания избыточных связей находится всецело под генетическим контролем. Возможно, синестетическая мутация ведет к неполному прерыванию лишних связей между некоторыми зонами, которые расположены рядом друг с другом. Конечный результат будет тем же: перекрещивание.
Как бы то ни было, важно заметить, что анатомическое перекрещивание между зонами мозга не может быть исчерпывающим объяснением синестезии. Если бы это было так, как бы вы объяснили часто упоминаемую синестезию во время приема галлюциногенных наркотиков, наподобие ЛСД? Наркотик не может внезапно вызвать прорастание новых аксоновых связей между нейронами, и такие связи магически не исчезнут, когда действие наркотика закончилось галюциногенный наркотик понижает порог срабатывания нейронов и становится возможным смешение образов, в норме разделенных вниманием, что так же в определенных пределах возможно при волевом усилии расширения границ внимания - одним из методов творческого создания ранее не существующих сочетаний. Таким образом, речь может идти о некоем усилении уже существующих связей, что не противоречит той возможности, что у синестетов таких связей может быть больше, чем у нас. Мы с Дэвидом Брэнгом имели дело с двумя синестетами, которые временно теряли свою синестезию, когда начинали принимать антидепрессанты, называемые СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), группу препаратов, в которую входит знаменитый прозак. Хотя на субъективные сообщения нельзя целиком полагаться, они все же дают ценные ключи для дальнейших исследований. Одна дама даже могла активизировать или подавлять у себя синестезию в зависимости от того, начинала она или прекращала прием препаратов. Она отказалась от антидепрессанта веллбутрин, потому что он лишал ее магического восприятия, даваемого синестезией, — без нее мир казался унылым.
Возможно, я говорил о перекрещивании путей слишком вольно, и до тех пор, пока мы точно не узнаем, что именно происходит на клеточном уровне, более нейтральный термин «перекрестная активация» (кроссактивация), возможно, подойдет лучше. Мы знаем, к примеру, что прилегающие друг к другу зоны мозга часто взаимоподавляют свою активность. Это подавление служит для уменьшения перекрестных помех и изолирует зоны друг от друга !!!. Что, если существует некий химический дисбаланс, который сводит такое подавление на нет, скажем блокирование подавляющего нейромедиатора или невозможность его произвести? В таком сценарии нет места для особых дополнительных «перемычек» в мозге, однако имеющиеся перемычки у синестетов уже не изолированы должным образом. Результат будет тот же: синестезия. Нам известно, что даже и в типичном мозге существуют весьма широкие нейронные связи между областями, лежащими далеко друг от друга. В чем заключаются их стандартные функции, неизвестно (как и для большинства связей в мозге), но простое усиление этих связей или ослабление их подавления может привести к предполагаемой мною перекрестной активации.
В свете гипотезы перекрестной активации мы теперь можем предположить, почему у Франчески были такие мощные эмоциональные реакции на различные материалы. У всех у нас есть в мозге первичная карта тактильных ощущений, именуемая первичной соматосенсорной корой, или S1. Когда я касаюсь вашего плеча, рецепторы прикосновения в вашей коже обнаруживают давление и посылают сообщение в S1. Вы чувствуете прикосновение. Равным образом, когда вы трогаете разные материалы, активизируется соседняя карта прикосновений, S2. Вы ощущаете конкретный материал: сухую шероховатость деревянной доски, скользкую влажность куска мыла. Такие тактильные ощущения в своей основе являются внешними, они идут из мира, находящегося вне вашего тела.
Другой отдел мозга, островок Рейля, составляет карту внутренних ощущений, исходящих от вашего тела. Ваш островок Рейля принимает непрерывный поток ощущений от рецепторов, находящихся в вашем сердце, легких, печени, внутренностях, костях, суставах, связках и мышцах, а вместе с тем и от специальных рецепторов вашей кожи, чувствующих тепло, холод, боль, прикосновение и, возможно, зуд и щекотку. Ваш островок Рейля использует эту информацию, чтобы составить общую картину, как вы чувствуете себя по отношению к внешнему миру и к вашему непосредственному окружению. Такие ощущения в своей основе являются внутренними и составляют первичные элементы вашего эмоционального состояния !!!. Будучи центральным игроком вашей эмоциональной жизни, ваш островок Рейля посылает сигналы и принимает сигналы от других эмоциональных центров в вашем мозге, включая миндалевидное тело, вегетативную нервную систему (управляемую гипоталамусом) и орбитофронталь-ную кору, которая задействована в тонких эмоциональных суждениях. У обычных людей эти структуры активизируются при встрече с определенными эмоционально заряженными объектами. Скажем, ласки любимого человека могут вызвать комплекс таких чувств, как страсть, близость, наслаждение. А если человек трогает фекалии, то это, напротив, приведет к чувствам отвращения и тошноты. Теперь подумаем, что могло бы случиться, если бы произошло крайнее возбуждение тех самых связей, которые соединяют S2, островок Рейля, миндалевидное тело и орбитофронтальную кору? Наверное, как раз и проявится тот самый комплекс эмоций, вызываемый прикосновением, который испытывала Франческа, когда трогала джинсу, серебро, шелк или бумагу — все то, что большинство из нас оставило бы спокойными.
Между прочим, мать Франчески тоже обладает синестезией. Но вдобавок к эмоциям она отмечает, что прикосновение вызывает у нее вкусовые ощущения. Например, поглаживание сетчатой железной ограды вызывает у нее во рту сильный солоноватый привкус. Это тоже объяснимо: островок Рейля получает сильный вкусовой сигнал от языка.
Используя идею кроссактивации, мы сосредоточились в основном на неврологическом объяснении синестезии цветов, чисел и материалов3. Но когда в моем кабинете появились другие синестеты, мы поняли, что существует множество других форм этого состояния. У многих людей дни недели или месяцы ассоциировались с определенными цветами: понедельник — с зеленым, среда — с розовым, а декабрь — с желтым. Ничего удивительного, что многие ученые полагали, что синестеты — сумасшедшие! Но, как я уже говорил ранее, я годами изучал то, что говорят люди. В данном конкретном случае я осознал, что дни недели, месяцы объединены концепцией числовой последовательности или порядка. Таким образом, у этих людей, в отличие от Бекки и Сьюзен, именно абстрактное понятие числовой последовательности провоцирует цвет, а не внешний вид числа. Почему так не похожи эти два типа синестетов? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо вернуться к анатомии мозга.
После того как числовая форма распознается в фузиформных клетках, сообщение направляется в угловые извилины, участок мозга в теменной доле, больше других участвующий в обработке восприятия цвета (на высшем уровне). Идея, что некоторые виды синестезии могут затрагивать угловые извилины, соответствует давнему клиническому наблюдению, что эта структура участвует в межмодальном синтезе. Другими словами, считается, что это большой узел, в котором собирается информация от органов слуха, зрения и осязания для создания умственных образов на самом высоком уровне. Например, кошка пушистая (осязание), она мурлычет и мяукает (слух), она имеет определенный внешний вид (зрение) и пахнет рыбой (обоняние) — все это вызывается в памяти видом кошки или при слове «кошка». Неудивительно, что пациенты с повреждениями угловых извилин теряют способность называть вещи (аномия), хотя могут распознавать их. Они испытывают трудности с арифметикой, которая, если задуматься, также включает в себя межмодальную интеграцию: в конце концов, в детском саду вы учитесь считать на пальцах. (В действительности, если вы коснетесь пальца пациента и спросите, как он называется, зачастую он не сможет вам ответить.) Все эти части клинических данных убедительно доказывают, что угловые извилины являются крупным центром в мозге для сенсорной конвергенции и интеграции. Возможно, именно поэтому и неудивительно, что ошибка в схеме приводит к тому, что определенные цвета могут быть в буквальном смысле вызваны определенными звуками.
По данным клинических неврологов, левая угловая извилина, в частности, может одновременно отвечать за оперирование численной величиной, последовательностью и счетом. Когда данная область мозга повреждена инсультом, пациент может распознавать цифры и все еще достаточно ясно мыслить, но у него возникают трудности даже с простейшей арифметикой. Он не может вычесть 7 из 12. Я видел пациентов, которые не могут сказать вам, какое из чисел больше — 3 или 5.
У нас есть превосходные основания для того, чтобы объяснить и другой вид перекрещивания. Угловые извилины участвуют в обработке цвета и числовых последовательностей. Может ли быть так, что у некоторых синестетов возникают перекрестные помехи между этими двумя высшими участками возле угловых извилин, а не ниже — в фузиформных клетках? Если так, то это объясняет, почему даже абстрактные образы чисел или идея числа, навеянная днями недели или месяца, четко проявляются в цвете. Другими словами, в зависимости от того, в какой части мозга выражен аномальный ген синестезии, получаются два разных типа синестетов: «верхние» си-нестеты, направляемые понятием числа, и «нижние», направляемые только видимым образом. А так как двусторонних связей в мозге много, то вполне возможно, что числовые представления о последовательности посылаются обратно в фузиформные извилины, чтобы спровоцировать цвет.
В 2003 году для проверки этих идей о возникновении образа в мозге я начал сотрудничество с Эдом Хаббардом и Джеффом Бойн-том из Солкского института биологических исследований. Эксперимент длился четыре года, но нам удалось показать, что у графемо-цветовых синестетов цветовая областьV4 активируется даже тогда, когда даются бесцветные числа. Эта перекрестная активация никогда не случится с вами или со мной. Во время недавних экспериментов, проведенных в Голландии исследователями Ромке Роувом и Стивеном Шольте, было обнаружено, что значительно большее количество аксонов («нитей») связывает V4 и область графемы у нижних синестетов по сравнению с популяцией в целом. И еще более удивительно, что у верхних синестетов больше волокон в непосредственной близости от угловых извилин. Все это соответствует нашим предположениям. Редко, когда в науке гипотеза находит свое подтверждение столь гладко.
Наши исследования прекрасно подтвердили теорию кросс-активации и элегантно объяснили различия в восприятии верхних и нижних синестетов4. Но провокационных вопросов — масса. Что, если буквенный синестет является билингвом и владеет двумя языками с двумя разными алфавитами, такими, например, как русский и английский? Английское Р и кириллическое П представляют собой более или менее одинаковые фонемы (звуки), но выглядят совершенно по-разному. Будут ли они вызывать одинаковые или разные цветовые ассоциации? Критична ли графема сама по себе или все-таки дело в фонеме? Возможно, у нижних синестетов запускает процесс синестезии зрительный образ, а у верхних синестетов звуковой? А как насчет заглавных и строчных букв? Или букв, напечатанных курсивом? Будут ли цвета соседних графем сливаться или исключать друг друга? Насколько мне известно, ни на один из этих вопросов еще не было получено адекватного ответа — это значит, что у нас впереди еще много лет захватывающих исследований синестезии. К счастью, множество новых исследователей, включая Джейми Уорд, Джулию Симнер и Джейсона Маттингли, присоединилось к нам. Изучение этой темы сейчас на взлете.
Позвольте мне рассказать вам еще об одном пациенте. В главе 2 мы отмечали, что фузиформные извилины репрезентируют не только формы, например буквы алфавита, но и лица в целом. А вдруг некоторые синестеты видят разные лица в своем цвете? Недавно мы столкнулись со студентом, Робертом, который описывал свой опыт именно так. Обычно он видел цветовой ореол вокруг лица, но в состоянии опьянения ему казалось, что цвет становился более интенсивным и распространялся по всему лицу целиком5. Чтобы проверить, говорит ли Роберт правду, мы провели небольшой эксперимент. Я попросил его пристально вглядеться в нос изображенного на фотографии студента из другого колледжа, и спросил, какой цвет Роберт видит вокруг его лица. Роберт ответил, что ореол вокруг студента был красным. Затем я стал давать быстрые зеленые и красные вспышки в разные части ореола. Взгляд Роберта немедленно реагировал на зеленые точки и только изредка на красные; в действительности он пожаловался, что не видел красные точки вообще. Это неопровержимо свидетельствует о том, что Роберт на самом деле видел ореолы: на красном фоне зеленое будет выделяться, в то время как красное будет едва заметным.
Чтобы напустить таинственности, следует добавить, что Роберт страдает синдромом Аспергера, интеллектуально сохранной формой аутизма. Ему очень сложно понимать людей и «считывать» их эмоции. Ему приходится прибегать к интеллектуальным выводам из контекста, но не интуитивно, как сделало бы большинство из нас. И каждая эмоция вызывала у него конкретный цвет. Например, злость была голубой, а гордость — красной. Родители с раннего возраста учили его ориентироваться на эти цвета, чтобы иметь стройную систему эмоций и компенсировать его недостаток. Интересно, что, когда они показывали мальчику высокомерное лицо, он говорил, что оно «фиолетовое и, следовательно, высокомерное». (Позднее до нас троих дошло, что фиолетовый — это смесь красного и синего, вызванные гордостью и напористостью, которые в комбинации дают фиолетовый. Роберт прежде не осознавал эти параллели.) Неужели абсолютно индивидуальный цветовой спектр Роберта систематически отображался в его «спектре» социальных эмоций? Если так, можем ли мы на примере Роберта изучить, как эмоции — и их сложные сочетания — представлены в мозге? Например, разводятся ли как эмоции гордость и высокомерие исключительно под влиянием окружающего социального контекста или они являются по сути четкими субъективными качествами? Является ли глубоко спрятанная ненадежность составной частью высокомерия? Не базируется ли весь спектр эмоций, этой тонкой материи, на различных комбинациях, различных пропорциях ограниченного количества базовых эмоций? Во второй главе упоминалось, что цветовое зрение у приматов имеет крайне полезный аспект, который отсутствует у большинства других компонентов визуального восприятия. Как мы могли видеть, с точки зрения эволюции соединение цвета с эмоцией на нейронном уровне первоначально было необходимо, чтобы привлечь нас к спелым фруктам и/или молодым листьям и побегам, а позднее вызвать у самцов интерес к ягодичной области у самок любые стереотипные реакции закрепляются как сочетение признаков восприятия и блокирующих или стимулирующих действие внутренних эмоциональных оценок: хорошо это или плохо. Это - общий принцип осознанного формирования поведенческого автоматизма, и эволюция здесь сделала только то, что создала такой механизм. Я предполагаю, что эти эффекты возникают в результате взаимодействия островка Рейля и высших участков мозга, отвечающих за цвет. Если подобные соединения чрезмерны — и, возможно, немного перепутаны — в мозге Роберта, то это объясняет, почему он видит многие цвета в связи с эмоциями.
К этому моменту я был озадачен другим вопросом. Какова связь — если она существует — между синестезией и творчеством? Уж что их точно объединяет, так это мистическая непостижимость и того и другого. Правильно ли расхожее мнение, что синестезия более присуща художникам, поэтам, писателям и, возможно, творческим людям в целом? Может ли синестезия объяснить способность к творчеству? Василий Кандинский и Джексон Полок были синестетами, был им и Владимир Набоков. Возможно, причины высокого процента сине-стетов среди творческих людей кроются глубоко в их мозге. Творчество - осознанное создание новых поведенческих вариантов ( и, в том числе, вариантов отношения, вариантов формализации отношения). Новые сочетания старого, далекие ассоциации возможны при (не)произвольном расширении границ внимания, когда ранее разные образы начинают составлять один общий образ. В этом есть сходство с размытием границ разного вида восприятия при синестезиях.
Набоков очень интересовался синестезией и много писал об этом в некоторых из своих книг. Например:
...В зеленой группе имеются ольховое f, незрелое яблоко р и фисташковое t. Зелень более тусклая в сочетании с фиалковым — вот лучшее, что могу придумать для w. Желтая вклю чает разнообразные е да i, сливочное d, ярко-золотистое у и и, чье алфавитное значение я могу выразить лишь словами «медь с оливковым отливом». В группе бурой содержится густой каучуковый тон мягкого g, чуть более бледное j и h — коричнево-желтый шнурок от ботинка. Наконец, среди красных, b имеет оттенок, который живописцы зовут жженой охрой, m — как складка розоватой фланели, и я все-таки нашел ныне совершенное соответствие v — «розовый кварц» в «Словаре красок» Мерца и Поля. (Память, говори. 1966. Пер. с англ. С. Ильина)
Он также отмечал, что оба его родителя были синестетами, удивительно, что отец видел букву к желтой, мать — красной, а он видел букву оранжевой — сочетание этих двух цветов! Из его записей неясно, считал ли он это сочетание случайным совпадением (каковым оно, скорее всего, является) или действительно гибридизацией синестезии.
Поэты и музыканты чаще подвержены синестезии. На своем сайте психолог Шон Дэй приводит свой перевод отрывка из немецкой статьи 1895 года, которая ссылается на великого музыканта Франца Листа:
Когда Лист стал капельмейстером в Веймаре (1842), он изумил оркестр тем, что сказал: «Господа, немного синее, пожалуйста! Данная нота требует этого!» или «Прошу вас темно-лиловый, я вас уверяю! Не так розово!». Сначала оркестранты думали, что Лист просто шутит... позднее они привыкли к тому факту, что великий музыкант видит цвета там, где были просто звуки.
Французский поэт и синестет Артюр Рембо написал стихотворение «Гласные», которое начинается:
А — черно, бело —Е,У — зелено, О — сине, И — красно... Я хочу открыть рождение гласных. А — траурный корсет под стаей мух ужасных, Роящихся вокруг как в падали иль в тине...
(Пер. Н. Гумилева)
Согласно недавнему опросу, треть всех поэтов, писателей и художников признаются, что имели те или иные переживания, связанные с синестетикой, хотя по более консервативным оценкам их испытывал один из шести. Но оттого ли, что у артистов просто более яркое воображение и они более склонны к самовыражению на языке метафор? Или они просто менее сдерживают себя, допуская подобные переживания? Или они просто заявляют, что являются синестетами, потому что творцу «модно» быть синестетом? Если уровень значительно выше, почему? Если частота проявления феномена действительно выше, то почему?
Одна вещь объединяет поэтов и писателей — они особенно искусно используют метафору. («Это восход, и солнце в нем — Джульетта!») Это как если бы их мозг, лучше чем у остальных людей, мог объединять вещи, кажущиеся несвязанными — как, например, солнце и красивая девушка. Когда вы слышите — «Джульетта — солнце», вам и в голову не придет думать: «О, неужели она — огромный светящийся шар?» Если вас попросят объяснить метафору, вы, наоборот, скажете что-нибудь вроде: «Она теплая, как солнце, питает, как солнце, сияет как солнце, рассеивает мрак, как солнце». Ваш мозг мгновенно проводит параллели, выделяя наиболее яркие и прекрасные черты Джульетты. Другими словами, так же как синестезия провоцирует создание произвольных связей между несвязанными объектами восприятия, такими как цвета и числа, метафора создает определенные связи между, казалось бы, несвязанными абстрактными сферами. Возможно, это не просто совпадение.
Ключом к этой загадке является наблюдение, что по крайней мере несколько понятий, как мы уже видели, закреплены в особых областях мозга. Если задуматься, нет ничего более абстрактного, чем число. Уоррен Мак-Калоч, основатель движения кибернетики в середине XX века, однажды задал риторический вопрос: «Что это за число, которое может знать человек? И что это за человек, который может знать число?» И вот оно число, аккуратно заключенное в границы угловых извилин. Когда они повреждены, пациент не может решать простейшие арифметические задачи.
И з-за повреждения в мозге человек может потерять способность называть инструменты, а овощи и фрукты — нет, или только фрукты, а инструменты — нет, или только фрукты, но не овощи. Все эти понятия расположены близко друг к другу в верхней части височных долей, но очевидно, что они достаточно отделены друг от друга, так что небольшой удар способен вывести из строя одно, но оставить другое нетронутым. Вы можете склоняться к мысли, что фрукты и инструменты — это скорее предметы восприятия, а не понятия, но по сути два инструмента — скажем, молоток и пила — могут внешне так же отличаться друг от друга, как они отличаются от банана; что их объединяет — так это семантическое представление об их предназначении и использовании.
Если мысли и понятия возникают в форме карты мозга, возможно, у нас есть ответ на вопрос касаемо метафор и креативности. Если мутации были причиной избыточных связей (или провоцировали чрезмерные перекрестные утечки информации) между разными областями мозга, то, в зависимости от того, где и как ярко была данная черта отражена в мозге, это может привести одновременно к синестезии и к повышенной способности объединять кажущиеся несвязанными понятия, слова, картины или мысли. Одаренные писатели могут иметь сильные связи между словесной и языковой областями. Одаренные художники могут иметь сильные связи между высокоуровневыми зрительными областями. Даже одно слово «Джульетта» или «солнце» может рассматриваться как центр семантического водоворота или как ураган ассоциаций. В мозге талантливого писателя избыток пересечений будет приводить к большему водовороту и, следовательно, к большему количеству перекрестных связей и одновременно к большей склонности к метафоре. Это могло бы объяснить большую частотность синестезии среди творческих людей. Эти идеи возвращают нас к исходной точке. Вместо того чтобы сказать: «Синестезия больше распространена среди творческих людей, потому что они более склонны к метафорам», мы вынуждены говорить: «Они более сильны в метафорах, потому что они синестеты». Если вы прислушаетесь к собственным разговорам, вы удивитесь, насколько часто метафоры всплывают в обычной речи. («Всплывают» — вот видите?) В самом деле, не для украшения речи все это. Метафоры и наша способность к скрытым аналогиям лежат в основе творческого мышления. И все же мы почти ничего не знаем о том, почему метафоры настолько оживляют ассоциации и как они представлены в мозге. Почему фраза «Джульетта — солнце» звучит более эффектно, чем «Джульетта теплая и ослепительно красивая женщина» ? Что это, сдержанность выражения, или это оттого, что упоминание о солнце автоматически вызывает висцеральные ощущения тепла и света, делая описание более ярким и в некотором смысле реальным? Возможно, метафоры позволяют вам создать в некотором роде виртуальную реальность в вашем мозге. (Имейте в виду, что «теплая» и «ослепительная» тоже являются метафорами! Только «красивая» не является.)
Не существует простого ответа на данный вопрос, однако мы знаем, что некоторые особенные механизмы в мозге, даже особенные области в нем могут иметь определяющее значение, потому что способность использовать метафоры может быть в некоторых случаях утеряна вследствие конкретных неврологических или психических расстройств. Например, существуют предпосылки, что в дополнение к трудностям, испытываемым при использовании слов и чисел, люди с повреждением левой нижней теменной доли также часто теряют способность интерпретировать метафоры и начинают понимать все исключительно буквально. Вывод еще не доказан, но доказательства кажутся очевидными.
Если пациента с повреждением левой нижней теменной доли спросить о значении пословицы «Один стежок, сделанный вовремя, отменяет необходимость в девяти позже», он ответит, что лучше зашить дырку в рубашке, пока она не стала слишком большой. Он полностью теряет метафорический смысл пословицы, даже если ему сказали, что это пословица. Так может, изначально угловые извилины развивались в качестве связующего звена между межмодальными ассоциациями и абстракциями, но позднее в человеке они вобрали в себя функцию создания всех видов ассоциаций, включая метафоры. Метафоры кажутся парадоксальным явлением: с одной стороны, метафора не является правдой в буквальном смысле, с другой стороны, удачная метафора может быть подобна удару молнии, открывая смысл более глубоко и явно, чем унылая буквальная формулировка.
У меня мурашки бегут по коже, когда я слышу бессмертный монолог Макбета из 5-й сцены 5-го акта:
Истлевай, огарок!
Жизнь — ускользающая тень, фигляр, Который час кривляется на сцене И навсегда смолкает; это — повесть, Рассказанная дураком, где много И шума и страстей, но смысла нет.
(Пер. М. Лозинского)
Он ничего не говорит в буквальном смысле. Он не говорит на самом деле о свечах, спектаклях или шутах. Если понимать буквально, эти строки действительно могли бы быть шутовским бредом. И все же эти слова являются одним из самых глубоких и пронизывающих душу рассуждений о жизни, когда-либо сделанных!
С другой стороны, каламбуры основаны на поверхностных ассоциациях. Больным шизофренией, у которых присутствует некая путаница в мозге, невероятно сложно интерпретировать метафоры и пословицы. Тем не менее бытует объективное мнение, что им хорошо даются каламбуры. Это кажется парадоксальным, потому что, в конце концов, и метафоры, и каламбуры проецируют связи между понятиями, кажущимися совершенно несвязанными. Тогда почему больным шизофренией хорошо удается одно и плохо — другое? Ответ кроется в том, что, несмотря на кажущуюся похожесть, каламбуры в действительности являются противоположностью метафорам. Метафора использует поверхностные сходства, чтобы обнаружить глубоко скрытую связь. В каламбуре присутствуют поверхностные сходства, которые маскируются под глубокие — в этом его комический посыл. («Как веселятся монахи на Рождество?» Ответ: «Никак».) Возможно, поглощенность «поверхностными» сходствами уводит или отвлекает внимание от более глубоких параллелей. Когда я спросил у пациента, больного шизофренией, что общего у человека со слоном, он ответил: «У обоих есть хобот», возможно намекая на мужской половой орган (а может, и на что-то другое?).
Ладно, шутки в сторону, и все же, если мои представления о связи между синестезией и метафорой верны, то почему не каждый синестет одарен творчески или почему каждый одаренный художник не является синестетом? Возможно, синестезия предрасполагает к творчеству, но это не означает, что другие факторы (как генетические, так и внешние) не участвуют в развитии творческого порыва. Тем не менее я бы предположил, что схожие, хотя и не идентичные, механизмы в мозге могут быть задействованы в обоих явлениях, так что понимание одного помогло бы понять другое.
Аналогия может быть полезной. Редкое заболевание крови, именуемое серповидно-клеточной анемией, вызвано рецессивным геном, который заставляет красные кровяные тельца принимать ненормальную «серповидную» форму, что делает их неспособными к транспортировке кислорода. Это может стать смертельным. Если вам повезло унаследовать две копии этого гена (в том несчастливом случае, если оба ваших родителя имеют признаки болезни или ее саму), то болезнь разовьется в полном масштабе. Если вы унаследуете только одну копию гена, вы не заболеете, однако сможете передать ее своим детям. Теперь оказывается, что, хотя серповидно-клеточная анемия встречается чрезвычайно редко в тех частях света, где она была искоренена естественным отбором, она в 10 раз чаще встречается в некоторых районах Африки. Почему? Ответ неожиданный: признаки серповидно-клеточной анемии на самом деле защищают человека от малярии — заболевания, вызванного укусом насекомого и разрушающего кровяные клетки. Эта защита, дарованная популяции в целом, перевешивает репродуктивный недостаток, вызванный теми редкими случаями, когда у человека присутствуют две копии серповидно-клеточного гена. Таким образом, вероятно, не поддающийся адаптации ген был отобран эволюционным путем, однако лишь в тех географических районах, где малярия носит характер эндемии.
Тот же довод предлагается для относительно частотной у людей шизофрении и биполярного расстройства. Эти расстройства не были искоренены, потому что — возможно — некоторые гены, которые приводят к полномасштабному расстройству, несут в себе положительные факторы и способствуют развитию творчества, интеллекта и тонких социально-эмоциональных способностей. Таким образом, человечество получает выгоду от сохранения этих генов в генофонде, но неприятным побочным эффектом является внушительное меньшинство, получившее эти гены в неудачной комбинации.
Эту логику можно перенести и на синестезию. На анатомическом уровне мы смогли увидеть, как гены, которые повышают кросс-активацию областей мозга, могут быть весьма выгодными, делая нас, как вид, более творческим. Некоторые необычные варианты комбинаций этих генов могут давать положительный побочный эффект, приводящий к синестезии. Спешу подчеркнуть замечание о положительном эффекте: синестезия не является столь опасной, как серповидно-клеточная анемия и психические расстройства, и большинству синестетов, похоже, действительно нравятся их способности, и, даже имей они возможность «вылечиться», они бы не согласились. И основной механизм может быть тем же. Эта мысль важна, поскольку она проясняет, что синестезия и метафора не одно и то же, и все же они глубоко связаны, и это может дать нам глубокое понимание нашей удивительной уникальности6.
Таким образом, синестезию лучше рассматривать как пример субпатологического межмодального взаимодействия, которое может стать характерной чертой или показателем творчества. (Модальность — это сенсорная способность, такая как нюх, осязание или слух. Межмодальность относится к обмену информацией между чувствами, когда зрение и слух одновременно твердят вам, что вы смотрите плохо дублированный иностранный фильм.) Но, как часто бывает в науке, это заставило меня задуматься о том, что даже у не-синестетов большая часть того, что происходит в мозге, зависит от не таких уж произвольных межмодальных взаимодействий. Так что в какой-то степени мы все являемся синестетами. Например, посмотрите на две фигуры на рисунке 3.7 — левое изображение выглядит как клякса, правое напоминает осколок стекла. Теперь позвольте мне спросить вас, что из них «буба», а что «кики»? Правильного ответа не существует, но наверняка вы отметили кляксу как «буба» и осколок как «кики». Недавно я проводил этот эксперимент среди большой аудитории, и 98 процентов студентов ответили так же. Возможно, вы подумаете, что это как-то связано с тем, что капля по своей физической форме напоминает букву Б («буба»), а зазубрины второго рисунка букву К (как в «кики»). Но если вы попробуете повторить эксперимент с людьми, не говорящими по-английски, в Индии

РИС. 3.7. Какое из этих изображений «буба», а какое «кики»? Подобные раздражители изначально использовались Хайнцем Вернером для изучения взаимодействия между слухом и зрением
или Китае, где письменность совершенно другая, вы обнаружите те же самые результаты.
Почему? Дело в том, что мягкие и волнистые контуры фигуры, похожей на амебу, метафорически (можно так сказать) имитируют мягкие волны звука «буба», которые представлены слуховыми центрами в мозге и округлившимися и расслабленными губами, производящими звук «бууу-бааа». С другой стороны, резкие формы звука «ки-ки» и резкий выгиб языка от неба имитируют резкие изменения зубчатой визуальной формы. Мы вернемся к этому примеру в главе б и увидим, что это могло бы стать ключом к пониманию большинства самых загадочных явлений нашего ума, таких как развитие метафор, языка и абстрактного мышления7.
Я приводил доводы, что синестезия, в частности «верхние» формы синестезии (включая абстрактные понятия, а не конкретные сенсорные свойства), может дать ключ к пониманию некоторых высших форм мыслительного процесса, на который способны только люди. Можем ли мы применить эти идеи к тому, что, возможно, является
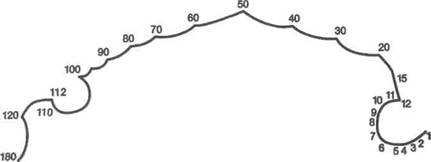
РИС. 3.8. Числовая линия Гальтона. Обратите внимание, что 12 расположено несколько ближе к 1, чем 6
одной из наших высших интеллектуальных способностей — математике? Математики часто говорят о числах, которые они видят в пространстве, путешествуя по этой абстрактной сфере, чтобы выявить скрытые связи, которые другие, возможно, пропустили. Например, последняя теорема Ферма или гипотеза Гольдбаха. Числа и космос? Являются ли они метафорическими?
Однажды, в 1997 году, я пропустил стаканчик шерри и меня озарило, ну или я решил, что меня озарило. (Большинство «озарений», которые у меня были в подвыпившем состоянии, оказывались ложной тревогой.) В своем научном труде Гальтон описывает второй вид синестезии, который является еще более интригующим, чем явление «число—цвет». Он назвал его «числовые формы». Другие исследователи называют его «числовая прямая». Если бы я попросил вас представить числа от 1 до 10 в вашем воображении, возможно, вы почувствуете смутное стремление увидеть их расположенными в пространстве последовательно, слева направо, как вас учили в начальной школе. У синестетов числовые ряды бывают разными. Они способны представить числа четко и видят их не последовательно слева направо, а на извилистой линии, так что 36 может оказаться ближе к 23, чем, скажем, к 28 (рис. 3.8). Можно было бы считать это «пространственно-числовой» синестезией, в которой каждое число располагается всегда на своем определенном месте в пространстве. Расположение чисел для каждого человека остается неизменным, даже, как было проверено, если прошло несколько месяцев.
Как и всегда в психологии, нужен был метод, чтобы экспериментально доказать наблюдения Гальтона. Я обратился к своим студентам Эдду Хаббарду и Шаи Азулэй за помощью. Сперва мы решили пронаблюдать хорошо известный эффект «чисел на расстоянии», наблюдаемый у обычных людей. (Когнитивные психологи изучили все возможные вариации данного эффекта на несчастных студентах-волонтерах, но его отношение к пространственно-числовой синестезии не было обнаружено, пока мы не присоединились.) Спросите кого угодно, какое из двух чисел больше, 5 или 7? 12 или 50? Любой, кто учился в школе, даст вам правильный ответ. Самое интересное наступает, когда вы засекаете время, которое занимает ответ. Эта задержка между показом пары чисел и словесным ответом является временем реакции. Оказывается, чем больше разница чисел, тем короче время реакции, и наоборот, чем ближе расположены два числа, тем больше времени требуется на ответ. Это наводит на мысль, что в мозге числа представлены в виде своего рода внутреннего числового ряда, с которым вы «зрительно» консультируетесь, чтобы определить, какая величина больше. Числа, которые отстоят друг от друга дальше, могут быть легче выхвачены глазом, в то время как числа, которые расположены ближе друг к другу, требуют более внимательного рассмотрения, которое занимает несколько миллисекунд.
Мы поняли, что могли бы использовать это, чтобы убедиться, действительно ли существует феномен извилистой числовой линии. Мы могли бы попросить пространственно-числового синестета сравнить пары чисел и проследить, совпадает время реакции с реальной математической дистанцией между числами или будет отражать уникальную геометрию внутренней числовой линии синестета. В 2001 году нам удалось привлечь к сотрудничеству австрийскую студентку по имени Петра, которая была пространственно-числовым синестетом. Ее чрезвычайно извилистая линия чисел была так загнута, что, например, число 21 было пространственно ближе к 36, чем к 18. Эд и я были очень взволнованы. С тех пор как Гальтон открыл пространственно-числовой феномен в 1867 году, никто его не исследовал. Так что любая новая информация будет очень ценной. Наконец-то дело сдвинется с мертвой точки.
132 МОЗГ РАССКАЗЫВАЕТ
Мы подключили Петру к аппарату, который измерял время ее реакции на вопросы: какое число больше — 36 или 38? 36 или 23? и т. п. Как часто бывает в науке, результат не был определенно ясным. Казалось, что время реакции Петры зависит частично от числового расстояния, а частично от пространственного. Результат был не таким убедительным, на какой мы надеялись, но это дало возможность предположить, что ее числовая линия не была представлена слева направо и линейно, как в обычном мозге. Некоторые числовые образы в ее мозге были определенно спутаны.
Мы опубликовали наше открытие в 2003 году, в томе, посвященном синестезии, и это поспособствовало многим дальнейшим исследованиям. Результаты были разнородными, но наконец-то мы возродили интерес к давней проблеме, которая была полностью проигнорирована учеными, и мы искали пути объективных исследований.
Шаи Азулэй и я провели второй эксперимент с двумя новыми пространственно-числовыми синестетами, это было проделано для доказательства той же точки зрения. В тот момент мы проводили тест на память. Мы просили каждого синестета запомнить набор из девяти чисел (например, 13,6,8,18,22,10,15,2,24), расположенных произвольно на различных участках экрана. Эксперимент включал в себя два условия. В условии А девять произвольных чисел были разбросаны на двухмерном экране. В условии Б каждое число было расположено там, где оно «должно было» располагаться на извилистой линии каждого синестета, спроектированной на экране. (Вначале мы опросили каждого синестета, чтобы выяснить геометрию персональной числовой линии, и определили, какие числа расположены ближе друг к другу в рамках его идиосинкразической системы координат). В каждом условии испытуемых просили посмотреть на экран в течение 30 секунд, чтобы запомнить числа. Через несколько минут их просто просили воспроизвести все увиденные цифры, которые они могли вспомнить. Результат был ошеломляющий: наиболее точно числа были воспроизведены при условии Б. Мы в очередной раз убедились, что эти персональные числовые линии действительно реальны. Если бы они не существовали или если бы порядок их следования менялся с течением времени, какое бы имело значение, как эти числа расположены? Размещение чисел там, где они «должны быть» на индивидуальной числовой линейке каждого участника, поспособствовало запоминанию чисел — такое вы не сможете увидеть среди обычных людей.
Еще одно наблюдение заслуживает отдельного упоминания. Некоторые из наших пространственно-числовых синестетов сказали, что форма их индивидуальных числовых линий оказала большое влияние на их способность к арифметике. Вычитание или деление (но не умножение, которое было опять же зазубрено без понимания) сильно усложнялось в связи с резкими изгибами их линий и было сложнее, чем на прямой части. С другой стороны, несколько талантливых математиков говорили мне, что их извилистые числовые линии давали им возможность видеть скрытые связи, которые ускользают от нас — простых смертных. Это наблюдение убедило меня в том, что и ученые-математики, и одаренные математики не были просто метафоричными, когда говорили о путешествиях по числовым пространствам. Они видят связи, которые не доступны менее одаренным простым смертным.
Что же касается того, как эти запутанные числовые линии появляются, это до сих пор невозможно объяснить. Числа могут обозначать различные вещи — одиннадцать яблок, одиннадцать минут, одиннадцатый день Рождества, — но что у них есть общего — это частично разделенные понятия величины и порядка. Эти свойства очень абстрактны, и наш обезьяний мозг изначально не был рассчитан на решение математических задач. Исследователи охотничье-собирательного общества предполагают, что наши доисторические предки, возможно, давали названия некоторым маленьким числам — может быть, до десяти (количество пальцев на руке), — но более развитые и гибкие системы счисления являются культурным изобретением исторических времен; а в те далекие времена просто не хватило бы интеллекта, начиная со счета палочек, разработать таблицу поиска или числовые модули. С другой стороны (это не каламбур), представление о сторонах и пространстве является таким же древним, как и умственные способности. Учитывая конъюнктурный характер эволюции, можно предположить, что наиболее удобный способ отобразить абстрактные числовые образы, включая последовательность, — это расположить их на внутренней карте визуального пространства. Учитывая, что теменные доли изначально развивались для отображения пространства, удивительно ли, что численные расчеты также производятся там, особенно в угловых извилинах? Это яркий пример того, что может быть уникальным шагом в эволюции человечества.
Принимая этот гипотетический скачок, я хотел бы сказать, что дальнейшая специализация может проводиться в наших теменных долях, отображающих пространство. Левая угловая извилина может быть вовлечена в отображение порядка. Правая угловая извилина может специализироваться на величине. Самый простой способ пространственно расположить числовую последовательность в мозге — выстроить прямую линию слева направо. Это, в свою очередь, накладывается на представление о величинах (в правом полушарии). А теперь допустим, что ген, отвечающий за расположение последовательности в зрительном пространстве, мутирует. Результатом может стать извилистая числовая линия, как у наших пространственно-числовых синестетов. Как бы я хотел предположить, что последовательности другого типа — такие, как месяцы или дни недели, — также расположены в левых угловых извилинах! Если это так, то пациент с инсультом в данной области должен испытывать трудности при просьбе быстро ответить, что, например, наступает раньше, среда или четверг. Я надеюсь однажды встретить такого пациента. Здесь увлечение объяснениями разных форм синестезии явно начинает выходить за рамки разумного, если учесть, что формирование даже самых простых примитивов восприятия (распознавателей примитивных сочетаний признаков восприятия) - очень индивидуально и не закреплено наследственно. Если в течение соответствующего критического периода развития слоя распознавателей в восприятии не будет соответствующих его уровню признаков, то такой распознаватель не формируется и в течение всей жизни это будет невосполнимо. Так что на уровне генов может быть задана предрасположенность к формированию связей, но никак не сами связи, ведь в рассмотренном виде синестезии автором уже как бы не предполагается возможность перекрытия разных модальностей, а именно генетическая определенность "расположение последовательности в зрительном пространстве".
Примерно
через три месяца после
того, как я начал исследование синестезии, произошел необычный поворот событий.
Я получил письмо от одного из моих студентов, Спайка Джахана, который не мог
сдать экзамены. Я открыл его, ожидая обычной просьбы «пожалуйста, пересмотрите
мои результаты экзаменов», но выяснилось, что
у него цвето-числовая синестезия, он прочел о наших исследованиях и
захотел принять в них участие в качестве испытуемого. Ничего необычного, пока
он не сделал сенсационное заявление — он дальтоник. Дальтоник с синестезией! У
меня голова пошла кругом! Если он видит цвета, отличаются ли они от тех,
которые видите вы
или я?
Может, синестезия прольет свет на одну из самых больших человеческих загадок —
самосознание?
Цветное зрение — замечательная вещь. Несмотря на то что большинство из нас может видеть миллионы различных оттенков, оказывается, что наши глаза используют только три вида цветовых фоторецепторов, так называемых колбочек, чтобы отображать все цвета. Как мы видели во второй главе, каждая из колбочек содержит пигмент, который оптимально отвечает только за один цвет: красный, зеленый или синий. Несмотря на то что каждый вид колбочек отвечает оптимально за одну специфическую длину волны, он также в меньшей степени отвечает за другие длины волны, близкие к оптимальной. Например, красная колбочка отвечает полностью за красный цвет, достаточно сильно за оранжевый, в меньшей степени за желтый и вряд ли вообще за зеленый и синий. Зеленая колбочка лучше всего реагирует на зеленый, меньше на желто-зеленый и того меньше на желтый. Таким образом, каждая специфичная длина (видимой) световой волны в той или иной степени стимулирует ваш красный, зеленый или синий тип колбочки. Существуют миллионы возможных комбинаций этих трех цветов, и ваш мозг знает, как преобразовать их в каждый отдельный цвет.
Дальтонизм является врожденным состоянием, когда один или несколько пигментов отсутствуют. Зрение дальтоника функционирует нормально практически во всех аспектах, но он может видеть только ограниченное количество оттенков. В зависимости от того, пигмент какого типа колбочек отсутствует и в какой степени, может быть красно-зеленый или сине-желтый дальтонизм. В редких случаях отсутствуют два пигмента, и человек видит все в черно-белом цвете.
У Спайка была красно-зеленая разновидность дальтонизма. Он видел намного меньшее количество цветов в окружающем мире, чем большинство из нас. Что действительно кажется странным, Спайк часто видел числа с цветовым оттенком, который он никогда не видел в реальности. Он говорил о них, будучи очарованным ими, как о «марсианских цветах», которые были «странными» и казались совершенно «нереальными». Он мог видеть их только тогда, когда смотрел на числа.
Любой другой не обратил бы внимания на эти замечания, счел бы их бессмысленными, но только не я и не в тот момент — объяснение само просилось прямо в мои руки. Я понял, что моя теория о перекрестной активации карты мозга прекрасно объясняет этот странный феномен. Вы понимаете, конечно, что у Спайка «барахлят» рецепторы-колбочки, но проблема только в его глазах. Сетчатка его глаза не способна отправить полный нормальный диапазон цветовых сигналов мозгу, но по всей вероятности, его корковые зоны, отвечающие за обработку цвета, такие как V4 в фузиформе, являются совершенно нормальными, В то же время он является цвето-числовым синестетом. Таким образом, числовые формы нормально отправляются в его фузиформу и затем, посредством межмодальной обработки, создают перекрестную активацию клеток в его цветовой зоне V4. Так как Спайк никогда не видел его недостающие цвета в реальности и мог видеть их, только глядя на числа, они кажутся ему невероятно странными. Кстати, это наблюдение также опровергает идею, что синестезия возникает из воспоминаний раннего детства, таких, например, как игра с цветными буквами-магнитами. Как может кто-то «вспомнить» цвет, который он никогда не видел? Кроме того, не выпускают буковки-магниты, окрашенные в «марсианские цвета»!
Стоит отметить, что синестет-недальтоник тоже может увидеть «марсианские» цвета. Некоторые описывают буквы алфавита как сочетание нескольких цветов, одновременно «наслаивающихся» друг на друга, что делает их не совсем соответствующими стандартной цветовой схеме. Это явление, возможно, возникает из механизмов, аналогичных тем, которые наблюдаются у Спайка; связи в его зрительном пути весьма своеобразны и потому не поддаются интерпретации.
Каково это, видеть цвета, которые не появляются нигде в спектре, цвета из другого измерения? Представьте, какое разочарование вы должны испытать, если чувствуете что-то, что не можете описать. Можете ли вы описать, как вы видите синий цвет, человеку слепому от рождения? Описать запах мармита индусу или шафрана англичанину? Вот она актуальность древней философской загадки, можем ли мы действительно знать то, что чувствует другой человек? Многие студенты задавали вопрос, казавшийся на первый взгляд наивным:
«Откуда я могу знать, что ваш красный — не мой синий?» Синестезия напоминает нам, что этот вопрос не столь уж и наивен. Как вы помните, термином для необъяснимого субъективного качества сознательного опыта являются квалиа — свойства чувственного опыта. Эти вопросы о том, похожи ли квалиа, свойства чувственного опыта, других людей на ваши собственные, или они другие, или отсутствуют вообще, — могут показаться такими же бессмысленными, как вопросы о том, сколько ангелов могут станцевать на булавочной головке, — но я не теряю надежду. Философы столетиями бились над этими вопросами, но вот наконец-то, с нашими растущими знаниями о синестезии, может приоткрыться тоненькая щелочка в двери этой тайны. Вот так всегда в науке: начните с простого, четко сформулированного, поддающегося обработке вопроса, который может стать этапом на пути к решению Большого Вопроса, такого как «Что значат квалиа?», «Что есть я?» и даже «Что значит сознание?».
Синестезия может дать нам некоторые ключи к этим вечным тайнам9,10, потому что она выборочно активирует некоторые визуальные зоны, пропуская или обходя другие. Это невозможно сделать искусственно. Таким образом, вместо того чтобы задаваться туманными вопросами «Что есть сознание?» и «Что есть я?», мы можем улучшить наш подход к проблеме, сфокусировавшись только на одном аспекте нашего сознания — нашего осознания зрительных ощущений — и спросить себя, требует ли осознанное восприятие красного цвета активации всех или большинства из тридцати участков зрительной коры? Или только небольшой их части? Как насчет целого каскада действий от сетчатки в таламус, затем к первичной зрительной коре, прежде чем сообщения попадут в зрительные зоны на тридцать уровней выше? Необходима ли их активность для сознательного опыта, или вы можете пропустить их и напрямую активировать зону V4, чтобы все равно увидеть тот же ярко-красный? Если вы смотрите на красное яблоко, вы обычно активируете зрительные зоны одновременно для цвета (красный) и формы (похожий на яблоко). Но что, если бы вы могли искусственно стимулировать область цвета, не стимулируя клетки, связанные с формой? Неужели вы воспринимали бы бесплотный красный цвет, плавающий перед вами в виде массы аморфной эктоплазмы или другого призрачного вещества? И наконец, мы также знаем, что множество нейронных проекций возвращаются с каждого иерархического уровня процесса зрительного восприятия на предыдущий, прежде чем перейти к следующему. Функция этих фоновых проекций пока не изучена до конца. Может, это необходимо для осознания красного? Что, если бы вы могли выборочно удержать их от активации (ну, например, с помощью химического препарата), пока вы смотрите на красное яблоко — осознание яблока не состоялось бы? От этих вопросов рукой подать до философских мысленных экспериментов, которыми так упиваются философы. Важное отличие научных экспериментов от философских: они действительно могут быть осуществлены, возможно при нашей жизни.
И тогда мы, возможно, наконец поймем, почему человекообразных обезьян не интересует ничего, кроме спелых фруктов и красных поп, в то время как человек тянется к звездам.
Очень жаль, что случай синестезии дальтоника не был проверен столь же остроумно и методологически корректно, как это было описано для самого первого в книге примера синестезии. Ведь есть вероятность, что начитавшийся про нее студент, намерено придумал "марсианские цвета" или невольно выразил так нечто иное. У меня есть серьезные основания сомневаться в том, что в мозге, в случае изначального нарушения восприятия цвета, могла быть сформированы распознаватели цвета, которого никогда не видел глаз. Само понятие цвета при его осознании (как и запаха, вкуса) зависит от связи сигналов первичных рецепторов и эмоционального отклика при каждом образовании смыла (значимости) данного цвета в данных условиях так, что даже при изменении баланса освещения цвет воспринимается таким же. Об этом: Субъективизация ощущений и личность и в Вспомогательные сенсорные корреляты действительности.
ГЛАВА 4
Нейроны, которые определили цивилизацию
Даже когда мы одни, как часто с болью и удовольствием думаем мы о том, что другие думают о нас, об их воображаемом одобрении или порицании; все это следует из способности к сопереживанию, основного элемента социальных инстинктов.
ЧАРЛЬЗ ДАРВИН
РЫБА ЗНАЕТ, КАК ПЛАВАТЬ, УЖЕ В ТОТ САМЫЙ МОМЕНТ, КОГДА
вылупляется из икринки, она сразу сама заботится о себе. Утенок, вылупившийся из яйца, почти сразу способен следовать за матерью по земле и по воде. Жеребенок, сразу после рождения, еще не обсохший после утробы матери, несколько минут брыкается, чтобы обрести чувство ног, и присоединяется к стаду. Волчонок (как и другие млекопитающие) довольно долго постигает особенности и приемы добывания пищи и выживания, перенимая сначала непосредственно то, что показывают родители (период доверчивого обучения), а потом внося инициативу (сначала в игровом режиме, в точности как у людей). Совсем не так с людьми. Мы рождаемся слабыми и кричащими как и волчата, в высшей степени зависимыми от постоянной заботы и наблюдения. Мы взрослеем темпами ледниковых периодов и долгие годы не достигаем того, что хотя бы отдаленно напоминало способности взрослого человека. Очевидно, мы получаем какое-то огромное преимущество от этого дорогостоящего, если не сказать рискованного, выдаваемого в качестве аванса капиталовложения, и называется оно культура. Культура (взаимопонимаемые символы общения и жизненный опыт в системе общей коммуникации, передаваемые из поколения в поколение) - вовсе не присуща только людям, а - любым стадным животным.
В этой главе я буду рассматривать, как особые клетки мозга, называемые зеркальными нейронами, сыграли центральную роль в становлении человека как единственного вида, который поистине живет и дышит культурой. Культура состоит из огромной массы сложных знаний и умений, передающихся от человека к человеку благодаря двум основным посредникам — языку и подражанию что столь же присуще волчьей стае и любой другой стае, но со своими особенностями, где так же имеется свой язык общения, а молодняк подражает взрослым до периода инициативы. Мы бы ничего собой не представляли без нашей способности подражать другим. Точное подражание, в свою очередь, зависит от уникальной человеческой способности «принять чужую точку зрения» как в прямом, так и в переносном смысле и требует более сложной структуры нейронов по сравнению с тем, как они организованы в мозге обезьян. Способность увидеть мир с точки зрения другого очень важна для построения психической модели раздумий и намерений другого человека, чтобы предсказывать его поведение и управлять им («Сэм думает, что я не понимаю, что Марта делает ему больно»). Эта человеческая способность, названная моделью психического состояния (the theory of mind), уникальна. Наконец, определенные аспекты самого языка — этого жизненно необходимого посредника для передачи культуры — возможно, отчасти основаны на нашей способности подражать.
Очень странно видеть столь категорические утверждения об уникальности способности подражать без попытки понять, когда эта способность наиболее востребована - в самом раннем периоде доверчивого обучения, практически у любых млекопитающих, чем обеспечивается преемственность опыта взрослых, позволяющая не с нуля набирать этот опыт, а воспитываться в его окружении - культурном окружении данной стаи. Затем этот опыт становится консервативным, препятствуя развитию личной адаптивности и период доверия авторитетам заменятся на игровой период преступания догм, период личной инициативы, когда поведенческие реакции начинают корректироваться с учетов особенностей данного тела и особенностей текущего окружения. Все эти эволюционные наработки достаточно древни.
Дарвиновская теория эволюции — одно из наиболее важных научных открытий всех времен. Однако эта теория, к сожалению, нисколько не заботится о загробном существовании. Как следствие, она вызвала самую острую из всех научных полемик, настолько сильную, что некоторые школьные округа в США настояли на том, чтобы присвоить в учебниках «теории разумного замысла» (фактически являющейся фиговым листком для креационизма) равный с теорией эволюции статус. Как отмечал британский ученый и социальный скептик Ричард Докинз, это все равно что дать в учебнике равный статус идее о том, что Солнце вращается вокруг Земли. Во времена, когда эволюционная теория была еще только выдвинута, задолго до открытия ДНК и молекулярных механизмов жизни, когда палеонтология только начала систематизировать ископаемые останки, пробелы в нашем знании были достаточно велики, чтобы оставить место для честного сомнения. Эта точка давно пройдена, но это не значит, что мы решили головоломку. Для ученого было бы слишком самонадеянно отрицать, что все еще остаются без ответа многие важные вопросы эволюции человеческого сознания и мозга. Главными в моем списке являются следующие:
1. Человеческий мозг получил почти современные размеры и, возможно, современные мыслительные способности около 300 тысяч лет назад. Однако многие черты, которые мы рассматриваем как исключительно человеческие: такие как производство орудий, добывание огня, искусство, музыка и, возможно, даже полностью оформившийся язык — появились лишь значительно позже, около 75 тысяч лет назад. Это - ошибочное представление возникает при отсутствии фактических данных о таких способностях других животных, см. Человек среди животных. Автор никак не обосновал своего утверждения, хотя оно требует особенно тщательного рассмотрения: он просто не знает таких примеров и только на этой основе судит, что этого нет. Дальнейшие рассуждения на такой основе оказываются порочными... Почему? Что делал мозг во время этого долгого инкубационного периода? Почему понадобилось столько времени для того, чтобы реализовался его скрытый потенциал, и почему он реализовался столь внезапно? Учитывая то, что естественный отбор может отбирать лишь выраженные способности, а не скрытые, как весь этот скрытый потенциал приобрел первостепенное значение? Я назову это «проблемой Уоллеса» в честь натуралиста Викторианской эпохи Альфреда Рассела Уоллеса, который первым выразил ее в ходе дискуссий о происхождении языка:
Самые неразвитые дикари с минимальным словарным запасом имеют способность произносить большое число разнообразных членораздельных звуков и применять их к почти бесчисленному количеству модуляций и форм слов, которая ничуть не ниже, чем у высших европейских рас. Инструмент развился задолго до потребностей его обладателя.
2. Грубые олдувайские орудия, сделанные всего несколькими ударами по камню, чтобы получить неровный острый край, возникли 2,4 миллиона лет назад и были, вероятно, сделаны Homo habilis, чей мозг занимал среднее по размеру положение между шимпанзе и современным человеком. Еще через миллион лет эволюционного застоя начали появляться эстетически привлекательные симметричные орудия, что отразило стандартизацию техники производства. Это потребовало смены твердого молотка на мягкий, возможно, деревянный молоток в процессе производства орудия, чтобы добиться гладкого, а не зазубренного и неровного края. И наконец, изобретение стандартных сборных орудий — сложных симметричных двусторонних орудий, оснащенных рукояткой, — произошло лишь двести тысяч лет назад. Почему эволюция человеческого сознания перемежалась этими относительно внезапными подъемами в изменении технологии? Какова была роль использования инструментов в формировании познавательных способностей человека?
3. Почему имел место внезапный взрыв — который Джа-ред Даймонд в своей книге «Ружья, микробы и сталь» назвал «великим скачком» —- в усложнении интеллекта около шестидесяти тысяч лет назад? Именно тогда возникли и широко распространились наскальная живопись, одежда и искусственные жилища. Почему эти резкие изменения произошли именно в тот момент, хотя мозг достиг своих современных размеров почти за миллион лет до того? Это снова проблема Уоллеса. К сожалению, "проблема" рассматривается только с позиции людей, но никак не других животных, которым специфика людей совершенно не требуется, у них - своя специфика, подчас даже в умениях преобразовывать что-то, превышающая навыки людей в этой области. Животные, оказывающиеся во взаимодействии с людьми, те же волки, в этом взаимодействии проявляют смекалку и адаптивные способности во многом выше, чем у людей, нужно знать эти факты, чтобы осознать: принципы адаптивности не требуют обязательной "технической" специфики, хотя техника во многих случаях дает решающее преимущество в противостоянии. У вирусов такое решающее преимущество - в быстрой изменчивости и быстром воспроизводстве. У волков - в своей среде обитания - в большем интеллекте охотников с высокоразвитыми навыками выживания и получения преимуществ в этих условиях. Во Франции был случай (и не один) когда долго не могли справиться с одним волком - людоедом, несмотря на все шпаги, копья и ружья. Да и любой спецназовец скажет, что важно не то оружие, которое в руках, а четко выработанные навыки получать преимущество в данных условиях.
В целом автор опять высказал очень спорные, недообоснованные утверждения.
4. Людей часто называют «макиавеллиевскими приматами», ссылаясь на нашу способность предугадывать поведение других людей и перехитрять их волки не менее хитры и коварны, вообще ложь - очень древнее изобретение, см. Про психическое явление «Ложь». Почему нам, людям, так хорошо удается читать намерения друг друга? Есть ли в нашем мозге специальный отдел или участок для модели чужого сознания, как предполагали когнитивные нейробиологи Николас Хэмфри, Ута Фрит, Марк Хаузер и Саймон Барон-Коэн? Где находится этот участок и когда он развился? Есть ли он в какой-либо рудиментарной форме у обезьян и высших приматов и, если да, что сделало нашу область мозга гораздо более сложной, чем у них?
5. Как развился язык? В отличие от таких человеческих атрибутов, как юмор, искусство, танец и музыка, значение языка для выживания очевидно: он позволяет сообщать наши мысли и намерения. Но вопрос о том, как такая экстраординарная способность появилась, приводил в тупик биологов, психологов и философов, по крайней мере со времен Дарвина. Проблема заключается в том, что человеческий голосовой аппарат намного более сложен, чем у любого другого примата, но без соответствующих развитых языковых областей человеческого мозга столь тонкий артикуляционный аппарат сам по себе был бы бесполезен. Так как же последовательно развивались эти два механизма, включающие в себя столь большое количество связанных друг с другом высокоразвитых частей? Следуя за Дарвином, я предполагаю, что наш голосовой аппарат и наша замечательная способность модулировать голос развились преимущественно для эмоциональных криков и музыкальных звуков во время ухаживания у ранних приматов, включая наших предков-гоминини. Как только произошло это развитие, мозг, особенно левое полушарие, мог начать использовать это для языка. Нужно учесть то, что для вербальной коммуникации вовсе не обязательно использования виртуозного голосового аппарата. Во всяком случае, такую необходимость требуется четко показать, чего не сделано. Можно общаться хоть азбукой морзе, что в некотором роде делают дельфины и многие птицы. Так что утверждение, что развитый голосовой аппарат (причем развитый именно в человеческой особенности) требуется для развития вербальных структур мозга - явно неверно. Стоит учесть еще и то, что кроме вербальных символов общения в культуре используется еще большее количество невербальных.
Остается неразгаданной еще более сложная загадка. Не порождается ли язык сложным высокоспециализированным психическим промежуточным «языковым органом», который уникален для человека и возник совершенно неожиданно, как предположил известный лингвист Массачусетского технологического института Ноам Хомский? Или существовала более примитивная система общения с помощью жестов, которая подготовила базу для возникновения голосового языка? Эта проблема решается в большой степени благодаря открытию зеркальных нейронов.
Я уже упоминал о зеркальных нейронах в предыдущих главах как и показывалось в комментариях надуманная важность особенности этих нейронов и вернусь к ним снова в шестой главе, но здесь, в контексте эволюции, рассмотрим их поближе. В лобных долях мозга обезьяны существуют определенные клетки, которые активизируются, когда обезьяна выполняет какое-либо определенное действие. Например, одна клетка активизируется во время нажатия на рычаг, другая — при хватании арахиса, третья — когда обезьяна кладет арахис в рот, четвертая — когда она что-либо толкает (не забудьте, что эти нейроны являются частью маленькой нейронной сети, выполняющей конкретную задачу; сам по себе один нейрон не двигает руку, но его реакция позволяет подслушать действие всей нейронной сети). Пока что в этом нет ничего нового. Такие нейроны моторных команд были открыты известным нейробиологом из университета Джонса Хопкинса Вер-ноном Маунткаслом несколько десятилетий назад.
В ходе изучения этих нейронов моторных команд в конце 1990-х годов другой нейробиолог, Джакомо Риццолатти со своими коллегами Джузеппе Ди Пеллегрино, Лучано Фадига и Витторио Галле-зе из итальянского университета Пармы, обнаружил кое-что весьма необычное. Некоторые нейроны активизировались не только когда сама обезьяна выполняла действие, но и когда она видела, как другая обезьяна выполняет то же действие! Услышав на лекции Риццолатти об этой новости, я чуть было не подскочил со своего места. Это были не просто командные нейроны, они были способны воспринять точку зрения другого животного (рис. 4.1). Подскочил - характерный признак существования предвзятой идеи, в контексте которой теперь будет рассматриваться явление... Понятие "командный нейрон" устарело. Все нейроны имеют только одну функциональность: распознавание характерного для них входного профиля возбуждения, они - детекторы сочетания признаков, распознаватели. Нейроны в нейросети лобных долей входят в состав последовательных цепочек различных наработанных реакций, - навыков творческой выработки новых вариантов поведения при осознании чего-либо. При этом используются признаки восприятия в контексте специализации этих цепочек. Там, где необходимы навыки отслеживания внешней динамики изменений, в том числе и действий живых существ, нейроны отдельных фаз цепочек будут распознавать ранее сформированные примитивы таких реакций. Они не являются специалистами именно в отзеркаливании, но входят в состав поведенческих автоматизмов, требующих отслеживания. И такая поведенческая функциональность может иметь наследственную предрасположенность, обеспечивающую период доверчивого обучения. Итак, никаких таких специфических функций зеркальности, каких-то особенностей, заставляющих нейрон оказываться способным зеркалить, не существует. Все отмеченные в опытах такие нейроны - типичные распознаватели в контексте выполнения наработанной специфики распознавания. Любая модальность восприятия требует соответствующей специфики распознавания и тогда любые распознаватели (например зрительных примитивов) можно назвать отзеркаливающими. Поэтому не стоит выделять это в какой-то особый класс функциональности. Эти нейроны (опять-таки, на самом деле нейронная сеть, к которой они принадлежат, с этого момента я буду использовать слово «нейрон» для обозначения «нейронной сети») по всем своим целям и замыслам были предназначены для чтения разума другой обезьяны - неверный, предвзятый вывод, ничем не обоснованный. Они предназначены не для считывания разума, а для обеспечения подражаемости действий в данных условиях и прогнозирования возможных событий., для понимания того, то она собирается делать. Это необходимо для таких социальных существ, как приматы.
Неясно, как именно зеркальный нейрон передает информацию и что именно обеспечивает его способность предсказывать с момента введения Павловым понятия опережающего возбуждения это должно бы быть понятным [207]. Кажется, что более высокие мозговые участки считывают его сообщение и говорят: «тот же самый нейрон сейчас срабатывает в моем мозге, как если бы я тянулся за бананом; видимо, другая обезьяна тянется сейчас за бананом». Кажется, что зеркальные нейроны являются в природной виртуальной реальности симуляциями намерений других существ.
Эти зеркальные нейроны позволяют обезьянам предсказывать простые целенаправленные действия других обезьян не только предсказывать, но в младенчестве копировать навык. Но у людей и только у людей они достаточно усложнились, чтобы понимать даже сложные намерения вот это - очень туманное утверждение: что такое сложность в поведении? Обезьяны не могут понять друг дружку столь же (без)ошибочно как люди? Другое дело - количество примитивов для отслеживания, количество используемых ситуаций. Как произошло это увеличение сложности, мы обсудим через некоторое время. Мы увидим, что зеркальные нейроны позволяют нам имитировать действия других людей. Возможно, они также развивают саморасширяющуюся петлю ответной реакции, которая вдруг в какой-то момент появилась, чтобы ускорить эволюцию мозга у нашего вида.
Как отметил Риццолатти, зеркальные нейроны также делают нас способными подражать движениям губ и языка других людей, что, в свою очередь, предоставляет эволюционную основу для речи. Две
|
|
|
|
|
|
-
.
РИС. 4.1. Зеркальные нейроны: записи нервных импульсов (показаны справа) в мозге макаки-резус (а), наблюдающей за другой обезьяной, тянущейся к арахису, и (б) схватившей арахис. Таким образом, каждый зеркальный нейрон (всего их шесть) срабатывает в обоих случаях: когда макака наблюдает за действием и когда макака сама выполняет это действие
эти способности — способность читать чьи-либо намерения и способность подражать их вокализации — запустили два основополагающих действия, которые определяли эволюцию языка опять необоснованное утверждение. Больше не нужно спорить об уникальном «органе языка», и проблема больше не кажется такой загадочной. Эти аргументы ни в коем случае не отрицают идею, что есть специализированные области человеческого мозга, которые отвечают за язык. Нас волнует здесь вопрос о том, как эти области могли развиться, а не о том, существуют они или нет. Важным кусочком мозаики является наблюдение Риццолатти, что одна из главных областей, где находятся зеркальные нейроны, вентральная премоторная область у обезьян, могла быть предшественником нашего знаменитого поля Брока, мозгового центра, связанного с экспрессивными аспектами языка человека.
Язык не ограничен какой-то одной областью мозга, но левая нижняя теменная доля определенно является одной из областей, которые решающим образом вовлечены в появление значения слова не значения потому, что значение придается ассоциацией с распознавателями системы значимости, которые и определяют значение воспринятого или действий в эмоциональном контексте для текущих условий.. Не случайно эта область так богата зеркальными нейронами у обезьян. Но откуда мы, собственно, знаем, что зеркальные нейроны существуют в человеческом мозге? Одно дело распилить череп обезьяны и провести дни и недели исследований с помощью микроэлектрода. Но люди, кажется, не очень заинтересованы в добровольном участии в таких процедурах.
Неожиданную подсказку дают пациенты со странным психическим расстройством, которое называется анозогнозия, состояние, в котором люди не сознают или отрицают свою инвалидность. У большинства пациентов после правополушарного инсульта появляется полный паралич левой стороны тела, и, что вполне естественно, они жалуются на это. Но примерно один из двадцати таких больных будет отрицать свой паралич, будучи в здравом уме и ясном сознании. Например, президент Вудро Вилсон, левая часть тела которого была парализована ударом в 1919 году, настаивал, что он отлично себя чувствует. Несмотря на помутнение в мыслях и вопреки всем советам, он оставался в кабинете, тщательно разрабатывал планы путешествий и важные решения о вхождении Америки в Лигу Наций.
В 1996 году несколько моих коллег и я провели собственное небольшое исследование анозогнозии и заметили кое-что новое и поразительное: некоторые из этих пациентов не только отрицали собственный паралич, но также паралич другого пациента — а позвольте мне вас заверить, неспособность второго пациента двигаться была совершенно ясна. Отрицать собственный паралич уже достаточно странно, но как можно отрицать паралич другого? если не срабатывают распознаватели такого явления, то и распознавания не будет, вот как! Мы предполагаем, что это необычное наблюдение легче всего описать в терминах повреждения зеркальных нейронов Риццолатти. То есть каждый раз, когда вы собираетесь судить о движениях другого, вам нужно виртуально воспроизвести соответствующие движения в вашем собственном мозге, а без зеркальных нейронов вы не можете этого сделать - неверное понимание функциональности нейронов, условно названных зеркальными: без соответствующих распознавателей этого не возможно.
Второе свидетельство в пользу зеркальных нейронов у человека мы находим, изучая определенные мозговые волны. Когда люди произвольно двигают руками, так называемый мю-ритм исчезает полностью. Мои коллеги Эрик Альтшулер, Хайме Пинеда и я выяснили, что подавление мю-ритма также случается, когда человек смотрит, как кто-нибудь другой двигает рукой, но мю-ритм не подавляется, когда человек смотрит на похожее движение неодушевленного объекта, например подпрыгивающий мячик. т.е. этим предполагается, что есть признаки, по которым судят об одушевленности и что это - не есть результат научения - называть что-то одушевленным. Дети склонны одушевлять неживое (сорри, нет точного определения, что такое живое).
Мы предположили на встрече Общества нейробиологии в 1998 году, что это подавление связано с системой зеркальных нейронов Риццолатти.
Со времени открытия Риццолатти были найдены другие типы зеркальных нейронов. Исследователи из университета Торонто изучали клетки передней поясной коры у пациентов, которые, находясь в сознании, подвергались нейрохирургическому воздействию. Уже давно было известно, что нейроны в этой области отвечают на физическую боль. Поскольку считалось, что эти нейроны отвечают на рецепторы боли, находящиеся в коже, их часто называют сенсорными болевыми нейронами. Вообразите себе удивление главного хирурга, когда он обнаружил, что сенсорные болевые нейроны, за которыми он наблюдал, с той же силой реагировали, когда пациент видел, как «делают больно» (укол) другому пациенту! Как будто нейрон сочувствовал кому-то другому. Эксперименты на добровольцах для изучения нейронов, которые проводила Таня Зингер, подтвердили наш вывод. Мне нравится называть эти клетки «нейронами Ганди», потому что они стирают границу между тобою и другим — не в переносном смысле, а буквально, ведь нейрон не делает никакого различия. Похожие нейроны, только для осязания, были открыты в теменной доле (группа ученых с Кристианом Кейсерсом во главе, которые также использовали различные техники записи мозга).
Только подумайте о том, что это значит! Каждый раз, когда вы видите, как кто-то что-то делает, активизируются те же самые нейроны, которые ваш мозг стал бы использовать, делай эти действия вы — как если бы вы сами это делали. Если вы видите, как другого тыкают иглой, ваши болевые нейроны сработают, как если бы это вас проткнули иглой. Это чрезвычайно интересно и поднимает некоторые важные вопросы. Что мешает нам слепо имитировать каждое действие, которое мы видим? Или буквально чувствовать чужую боль? А ведь речь идет всего лишь о распознавателях выделенного явления: боль от укола в независимости от того, у кого это явление распознается.
В случае с моторными зеркальными нейронами можно ответить, что могут существовать фронтальные ингибиторные участки, которые подавляют автоматическое подражание, когда оно неуместно. Парадоксально, что эта необходимость подавлять нежелаемые или импульсивные действия могла стать главной причиной развития свободной воли здесь уже - полный разгул фантазии, в том числе и с использованием неопределенного автором понятия "свобода воли", которое при этом имеет вполне конкретное представительство в механизмах психики при описании осознанного акта воплощения нового варианта поведения для несколько новых условий, когда старый предполагает иное реагирование и новый вариант требует определенных усилий для преодоления старого стереотипа. Ваша левая нижняя теменная доля постоянно вызывает яркие образы бесчисленных возможностей действия, которые доступны в каком-либо контексте, а ваша лобная кора подавляет их все, кроме одного. Поэтому было предложено использовать термин «свободная неволя», как более подходящий, чем «свободная воля». Когда эти лобные ингибиторные участки повреждены, как при лобном синдроме, пациент иногда непроизвольно подражает жестам — симптом, который называется эхопраксия. Я бы предположил также, что некоторые из этих пациентов могут буквально испытывать боль, если проткнуть кого-нибудь другого, но, насколько мне известно, такие исследования никогда не проводились.
Чтобы хорошо ориентироваться в том, что происходит на уровне нейросети при совершении поведенческих актов, просто необходимо понимать, как и в виде чего формируются цепочки поведенческих автоматизмов, обеспечивающих стереотип поведения (еще у Павлове гениальное предположение о динамических стереотипах) [123] и что может вызывать те или иные явления при повреждении этих цепочек или цепочек мыслительных автоматизмов [249], обеспечивающих направленность выбора ветвления поведения в отслеживающем режиме сознания. Без такой целостной концепции все предположения не имеют шансов быть верными, невозможно угадать, как именно организуется столь сложная система. Дети склонны в определенном возрасте копировать все виденное у других, но постепенно нарабатывают адаптивный навык не делать это так непосредственно.
В некоторой степени сбои в системе зеркальных нейронов могут происходить даже у нормальных людей. Чарльз Дарвин указал на то, что, даже будучи взрослыми, мы бессознательно сгибаем колено, когда смотрим на атлета, готовящегося бросить копье, или стискиваем и разжимаем челюсти, когда смотрим, как кто-то орудует ножницами1.
Теперь вернемся к сенсорным зеркальным нейронам осязания и боли: почему они активизируются, но это не заставляет нас автоматически чувствовать все, чему мы являемся свидетелями? Мне пришло в голову, что, возможно, нулевой сигнал («меня не касается») от кожных и суставных рецепторов в вашей собственной руке блокирует сигналы от ваших зеркальных нейронов и не дает им достичь сознания. Перекрывающие друг друга нулевые сигналы и активность зеркальных нейронов интерпретируются мозговыми центрами более высокого уровня как «пожалуйста, сочувствуй, но не воспринимай буквально ощущения этого парня». Выражаясь в более общих терминах, именно динамическое взаимодействие сигналов от лобных ингибиторных участков, зеркальных нейронов (и лобных, и теменных) и нулевых сигналов от рецепторов позволяет вам испытывать взаимность с другими людьми и в то же время сохранять свою индивидуальность.
Сначала это объяснение было безосновательной догадкой с моей стороны, но затем я встретил пациента, которого звали Хамфри. Хамфри потерял руку на первой войне в Персидском заливе и обзавелся фантомной рукой. Как бывает и с другими пациентами, каждый раз, когда кто-нибудь дотрагивался до его лица, он чувствовал, что трогают его потерянную руку. Пока ничего удивительного. Но в моей голове бурлили идеи о зеркальных нейронах, и я решил испробовать новый эксперимент. Я просто заставил его смотреть на другого человека — мою студентку Джули, пока я ударял и постукивал по ее руке. Представьте себе мое удивление, когда он воскликнул с явным изумлением, что он не только видит, но и ощущает на своей фантомной руке то, что делается с рукой Джули. Я предполагаю, что это произошло потому, что его зеркальные нейроны активизировались как обычно, но от руки больше не поступало сигнала, чтобы отменить их. Активность зеркальных нейронов Хамфри полностью перешла в сознательный опыт. Невероятно: единственная вещь, которая отделяет ваше сознание от сознания другого человека, — это, возможно, ваша кожа! - вот такие невероятные озарения увлеченного автора, который пытается делать предположения, слишком далекие от аксиоматики и без построения общей, прогностической концепции. Вместо картины автоматизмов с нарушенной обратной связью фаз последовательных действий - "объяснение" в духе предвзятой идеи. После того как я наблюдал этот феномен у Хамфри, мы протестировали трех других пациентов и обнаружили тот же эффект, которые мы окрестили как «приобретенная гиперэмпатия». Удивительно, но некоторые из этих пациентов получали облегчение от фантомной боли в конечности, просто наблюдая, как другому человеку делали массаж. Это может быть полезно в клиническом отношении, потому что очевидно, нельзя делать прямой массаж фантомной части тела.
Эти удивительные результаты наталкивают на еще один поразительный вопрос: что, если без ампутации просто анестезировать плечевое нервное сплетение пациента (где нервы соединяют руку со спинным мозгом) ? Будет ли пациент тогда чувствовать анестезированную руку, просто наблюдая, как кто-то касается соседа по палате? Ответ, неожиданно, «да». Это имеет радикальные последствия, поскольку, оказывается, мозгу не требуется никакой значительной структурной реорганизации для эффекта гиперэмпатии, достаточно просто подавить руку (я проделал этот эксперимент с моей студенткой Лорой Кейс). Это дает более динамичную картину связей мозга, чем можно было бы вообразить, судя по статичным картинам диаграмм из учебников. Конечно, мозг строится из модулей каких таких модулей? это похоже на неплодотворные рассуждения Н.Бехтеревой о жестких и гибких звеньях, без понимания картины происходящего., но модули не фиксированы, они постоянно обновляются через мощное взаимодействие друг с другом, с телом, с окружающей средой и, конечно, с мозгом других людей.
С тех пор как были открыты зеркальные нейроны, появилось много новых вопросов. Во-первых, являются ли функции зеркальных нейронов врожденными или приобретенными или, может быть, понемногу и того и другого? это вопрос о том, что и как может наследоваться, см. Наследование признаков. Во-вторых, как сцеплены зеркальные нейроны и как они выполняют свои функции? В-третьих, почему они возникли в процессе эволюции (если это так) ? В-четвертых, служат ли они еще какой-нибудь цели помимо той, которая следует из их названия? (Я утверждаю, что служат). Далее идут настолько оторванные от непосредственных фактов исследования и добротных обобщений таких фактов рассуждения, что я буду пропускать большие фрагменты книги, не комментируя.
..........
Зеркальные нейроны играют важную роль в уникальности человеческих возможностей. Они позволяют нам подражать. Вы уже знаете, как младенец подражает высунутому языку. Как только мы достигаем определенного возраста, мы можем подражать очень сложным моторным действиям, например, вскидывать большой палец вверх, когда хотим сказать «класс!!!» или подавать мяч. Ни одна человекообразная обезьяна не может сравниться с нами в таланте имитации это - голословное утверждение. Однако замечу в скобках, что обезьяна, которая ближе всего подошла к нам в этом отношении, — это не наш ближайший сородич шимпанзе, а орангутан. Орангутаны могут даже открывать замки и использовать весло для гребли, если они увидят, как кто-то другой выполняет эти действия и даже - если не видят, кстати, см. Попугаи способны разгадывать последовательность замков без предварительного обучения:. Они, кроме того, наиболее древесные и хваткие из всех больших обезьян, так что их мозг, возможно, напичкан зеркальными нейронами для того, чтобы их детеныши могли смотреть на маму и учиться безошибочным действиям с деревьями. Если каким-нибудь чудом группа орангутанов в Борнео выживет в экологическом холо-косте, который вот-вот учинит Homo sapiens, эти кроткие приматы вполне могут унаследовать землю.
Подражание, может быть, не выглядит таким уж важным умением — в конце концов, слово «обезьянничать» звучит оскорбительно, хотя по иронии судьбы большинству обезьян подражание дается с трудом. Но как я отметил раньше, подражание могло быть ключевым шагом в эволюции человека, превратившись в нашу способность передавать знание посредством примера это и в самом деле ключевая находка эволюции, позволяющая не с нуля обучаться, а быть преемственным культуре, но она очень древняя, и никакой уникальности у человека в этом нет. Когда этот шаг был предпринят, наш вид вдруг совершил переход от дарвиновской эволюции, основанной на генах, через естественный отбор — который занял миллионы лет — к культурной эволюции это - непонимание сути эволюции: она вовсе не основана "на генах" или "культуре", она имеет более общие принципы: Эволюция живых существ на Земле. Сложное умение, приобретенное изначально путем проб и ошибок (или благодаря случайности, например, если кто-нибудь из наших человекообразных предков увидел, как куст загорается от лавы), теперь стало быстро передаваться всем членам племени, старым и молодым. Другие исследователи, включая Мерлина Дональда, пришли к такому же заключению, хотя и не в связи с зеркальными нейронами3.
Освобождение от ограничений, которые накладывает дарвиновская эволюция, основанная на генах, было гигантским шагом в эволюции человека. Одной из загадок человеческой эволюции является то, что ранее мы назвали «огромным скачком вперед», — относительно внезапное возникновение 60—100 тысяч лет назад определенного числа атрибутов, которые считаются специфически человеческими: огонь, искусство, убежища-жилища, украшения, составные орудия и более сложные формы языка. Антропологи часто предполагают, что этот взрывной рост культурной многогранности должен был произойти по причине мутаций в мозге, но это не объясняет, почему все эти удивительные способности должны были возникнуть ровно в одно и то же время.
Одно из возможных объяснений в том, что так называемый большой скачок — это просто статистическая иллюзия. Эти особенности могли на самом деле накапливаться в течение гораздо более долгого периода, чем об этом свидетельствуют находки. Но, конечно, этим особенностям не обязательно возникать ровно в одно и то же время, чтобы наш вопрос все равно имел смысл. Даже если растянуть этот скачок, скажем, на 30 тысяч лет, это все равно будет одним мигом по сравнению с миллионами лет постепенных поведенческих изменений, которые имели место ранее. Второе возможное объяснение состоит в том, что новые мутации в мозге просто увеличили наш общий интеллект, способность к абстрактному мышлению, которая измеряется в IQ-тестах.
Эта гипотеза на верном пути, но она не так уж много говорит нам — даже если оставить в стороне законные возражения о том, что интеллект — это сложная, многоуровневая система, которая не может быть сведена к одной основной способности. Опять туман... Так и не дается корректное определение того, что такое интеллект, см. Интеллект: определение, развитие и деградация.
Это открывает путь к третьей гипотезе, которая возвращает нас снова к зеркальным нейронам. Я предполагаю, что в мозге действительно произошли генетические изменения, но, по иронии судьбы, эти изменения освободили нас от генетики - вот это да! мы, оказывается, обходимся без генетики!, усилив нашу способность учиться друг у друга. Эта уникальная способность освободила наш мозг от дарвиновских оков и способствовала быстрому распространению уникальных изобретений — таких как изготовление бус из ракушек, орудий, использование огня, устройство жилищ или изобретение новых слов. После шести миллиардов лет эволюции культура наконец стартовала, и с ее помощью были посеяны семена цивилизации. Преимущество этой гипотезы в том, что вам не нужно доказывать, что отдельные мутации произошли почти одновременно, чтобы объяснить одновременное возникновение наших многочисленных и уникальных умственных способностей. Усложнение одного-единственного механизма — подражание и понимание намерений — могло бы объяснить громадную поведенческую пропасть между нами и обезьянами. Во-первых, никакой такой громадной пропасти нет в организации механизмов психики людей и других высших животных, во-вторых, не стоит полагаться на заманчивое желание все непонятки "объяснить" чем-то одним :) Есть резкое отличие культур, того, что передается из поколение в поколение в среде этих культур и это различие не зависит от механизмов организации психики. В любом случае в таких спорных вопросах не место лихим наскокам смелых предположений.
Я приведу одну аналогию. Представьте себе марсианского натуралиста, который наблюдает эволюцию человека в течение последних 500 тысяч лет. Конечно, он озадачен огромным скачком вперед, который произошел 50 тысяч лет назад, но еще больше он озадачен вторым большим скачком, который начался в 500-х годах до н. э. и продолжается до сих пор. Благодаря определенным нововведениям, таким как математика, и особенно открытие нуля, цифровых символов (в Индии в 1-м тысячелетии до н. э.) и геометрии (в Греции в это же время) и чуть позже экспериментальная наука (открытие Галилея), поведение современного цивилизованного человека стало более сложным, чем людей, которые жили в период с 10 до 50 тысяч лет назад.
Этот второй культурный скачок вперед еще более резкий, чем первый. Поведенческий разрыв между людьми до и после 500 года до н. э. больше, чем, скажем, между Homo erectus и Homo sapiens. Наш марсианский ученый может сделать вывод, что он стал возможен благодаря какому-то новому набору мутаций. Но, учитывая временной масштаб, это было бы просто невозможно. Революция произошла из-за ряда факторов окружающей среды, которые случайно произошли в одно и то же время. (Не забудем об изобретении печатного станка, которое сделало возможным и общедоступным быстрое распространение знания, которое до этого оставалось достоянием элиты.) Но если мы допускаем это, то почему ту же аргументацию нельзя применить к первому большому скачку? Может быть, произошел ряд удачных изменений окружающей среды и несколько случайных изобретений вместе с уже существовавшей способностью узнавать и быстро распространять информацию — это и стало основанием для
культуры. И если вы еще не догадались, эта способность, возможно, была тесно связана с системой зеркальных нейронов.
Осторожность прежде всего ну, слава аллаху! :). Я не утверждаю, что одних зеркальных нейронов было достаточно для большого скачка или для культуры вообще. Я только хочу сказать, что они сыграли решающую роль и тут следует быть не менее осторожным.. Кто-то что-то изобретает или открывает — например, замечает искру между двумя камнями, когда они ударяются друг о друга, — а потом открытие может распространиться. Моя гипотеза в том, что, даже если бы такие случайные нововведения появлялись среди человекообразных обьезьян, они бы пропали, если бы не сложная система зеркальных нейронов. В конце концов, даже у обезьян есть зеркальные нейроны, но они не являются гордыми носителями культуры это - заблуждение, если не говорить про гордость. Их система зеркальных нейронов или недостаточно развита уже говорилось о том, что это - некорректное утверждение, или не соединена должным образом с другими структурами мозга, чтобы сделать возможным быстрое распространение культуры. Более того, как только появился бы механизм распространения, он бы оказал избирательное давление, чтобы сделать более передовыми отдельных особей в популяции. Нововведения имели ценность, только если они быстро распространялись ????. В этом отношении мы можем сказать, что зеркальные нейроны сыграли ту же роль в ранней эволюции человека, что сегодня Интернет, Википедия и блоги. Как только процесс был запущен, для человечества уже не было пути назад ????.
Концепция "зеркальных нейронов", их необоснованное выделение в отдельную функциональность, без целостного понимания организации, адаптивности поведенческих актов, породило, при всем увлечении идеей, настоящую Любимую, Сверхценную Идею со всеми негативными последствиями, см. Идея-фикс.
Здесь будет уместно добавить три пояснения. Первое: небольшие группы клеток, свойства которых похожи на зеркальные нейроны, были найдены во многих частях мозга и должны рассматриваться как части большой цепи, если хотите — «зеркальной сети». Второе, как я отмечал ранее, нужно быть осторожными, чтобы не приписывать все неразгаданные загадки мозга зеркальным нейронам а ведь это так легко сделать, учитывая, что любой нейрон что-то зеркалит в виду своей функции распознавания :). Они не занимаются всем! Более того, они, похоже, играли ключевую роль в нашей эволюции от обезьян, они продолжают встречаться от исследования к исследованию разнообразных психических функций, которые значительно превосходят наше изначальное представление о них: «обезьяна увидела — обезьяна сделала». Третье, соотнесение определенных когнитивных функций с определенными нейронами (в данном случае зеркальными нейронами) или участками головного мозга — это только начало, нам все еще предстоит понять, каким образом нейроны выполняют свои операции ну а до того, как будет осознана общая функциональность нейронов, незачем делать далекие предположения, которые не имеют шанса угадать действительность.. Однако понимание анатомии может в значительной степени направить нас на верный путь и сделать проблему менее сложной. В частности, анатомические данные могут сдерживать наши теоретические ложномудрствования и помочь убрать многие, на первый взгляд многообещающие, гипотезы. С другой стороны, утверждение, что «источником психических способностей является сеть однородных нейронов», ведет в никуда и противоречит эмпирическим данным об анатомической специализации участков мозга это - необоснованное и категоричное утверждение опровергается материалами О системной нейрофизиологии, основанными на близкой фактической аксиоматикe. Общая и единственная функциональность нейронов - распознаватель профиля входных сигналов - характерна для любых анатомических образований мозга.
..........
КРАСОТА И МОЗГ: РОЖДЕНИЕ ЭСТЕТИКИ
....после того как вы были очарованы китчем, но почти невозможно вернуться обратно к китчу после того, как вы познали восторг высокого искусства. И все-таки разница между ними остается очень туманной. Я утверждаю, что ни одна теория эстетики не может быть полной, если она не решает эту проблему и не может объективно описать это различие.
В этой главе я буду рассуждать о том, что настоящее искусство — или же эстетика — включает правильное и эффективное применение определенных художественных универсалий, тогда как китч только имитирует действие искусства, без истинного его понимания. Это не завершенная теория, но надо же с чего-то начинать.
Здесь опять видно большое увлечение автора "объяснять", в частности, искусство и легковесное генерирование правдоподобных, с его точки зрения, предположений, основывающихся на его ранее утвердившихся идеях. Пропуская эти фрагменты книги, просто замечу, что искусство - один из атрибутов культурной коммуникабельности, см. Этические символы общения, Понимание прекрасного.
..........
Прежде чем продвигаться дальше к следующим семи законам, я хотел бы разъяснить, что я понимаю под «универсальностью». То, что структура ваших зрительных центров заключает в себе универсальные законы, не отрицает огромной роли культуры и опыта в формировании вашего мозга и разума. Многие когнитивные способности, которые лежат в основе человеческого образа жизни, только частично определяются генами. Природа и воспитание дополняют друг друга. Гены задают эмоциональные и корковые мозговые сети лишь до определенной степени, а затем уступают место окружению, которое формирует ваш мозг дальше, образуя в результате вас как индивида. В этом отношении человеческий мозг абсолютно уникален — он так же неотделим от культуры, как рак-отшельник от своего панциря. Законы заданы, а содержание приобретается воспитанием и обучением. Опять необоснованное утверждение об уникальности того, что присуще и другим животным.
Вспомните, как происходит узнавание лиц. Ваша способность узнавать лицо — врожденная нет такой врожденной способности, есть принцип иерархии распознавателей, первичные из которых формируются "без учителя" в критические периода развития соответствующих структур и затем формируются распознаватели с совершенно иным принципом фиксации профиля - на основе осознанной оценки результата предположения и реальности - адаптивностью личности с помощью механизма осознания, но вы не рождаетесь, уже зная лицо матери или почтальона. Специальные клетки вашего мозга учатся распознавать лица, реализуя заложенную в них способность по отношению к людям, с которыми вы встречаетесь не отдельные нейроны (клетки) вовлечены в формирование распознавания "с учителем", а целые системы, включаемые механизмом осознания. И нет таких "специальных" для распознавания нейронов, они все - распознаватели.
..........
СВОБОДНАЯ ВОЛЯ
Одним из атрибутов нашей индивидуальности является чувство «ответственности» за свои действия и, как следствие, убежденность в том, что при желании мы могли бы поступить иначе. Это может показаться абстрактным философствованием, но на самом деле играет важную роль в системе уголовного судопроизводства. Человека можно объявить виновным, только если он 1) мог полностью предвидеть другие доступные образы действия, 2) всецело осознавал возможные последствия своих действий, как ближайшие, так и отдаленные, 3) мог принять решение воздержаться от действий и 4) он хотел того результата, который последовал.
Верхняя извилина, ответвляющаяся от левой нижней теменной дольки, которую я раньше называл надкраевой извилиной, в сильной степени участвует в этой способности создавать динамический внутренний образ предвосхищаемых событий. Эта структура сильно развита в мозге человека, ее повреждение приводит к своеобразному расстройству под названием апраксия, определяемому как неспособность выполнять действия, требующие навыка. Например, если вы попросите пациентку с апраксией помахать кому-нибудь рукой на прощание, она просто уставится на свою руку и начнет шевелить пальцами. Но если вы спросите ее, что значит «до свидания», она ответит: «Ну, это когда вы машете рукой, покидая компанию». Более того, мышцы ее руки в порядке, она может развязать узел. Ее мышление и языковые способности не задеты, как и ее моторная координация, но она не может перевести мысль в действие. Я часто задумывался, не развилась ли эта извилина, которая есть только у людей, первоначально для изготовления и оснащения многокомпонентных инструментов, например, насаживание топора на соответствующим образом вырезанное топорище? то, что она выражена анатомически только у людей вовсе не означает, что у других животных нет способности реализовать новые варианты поведения, причем, формируя их творчески. Вообще неправдоподобно выглядит утверждение, что у человека появилась извилина, "первоначально для изготовления и оснащения многокомпонентных инструментов".
Все это лишь часть истории. Мы обычно думаем о свободе воли как о двигателе, связанном с нашим ощущением того, что мы сознательные личности, у которых есть множество выборов. У нас есть только несколько догадок о том, откуда появляется это чувство активности — желание действовать и вера в свои возможности см. Целенаправленное поведение.. Очень помогает исследование пациентов с поврежденной передней частью поясной извилины в лобных долях, которая, в свою очередь, получает основной сигнал от верхних теменных долек, включая супрамаргинальную извилину. Такое повреждение может привести к акинетическому мутизму, или бодрствующей коме, которую мы наблюдали у Джейсона в начале этой главы. Некоторые пациенты через несколько недель восстанавливаются и говорят что-то вроде: «Я был полностью в сознании и знал, что происходит, доктор. Я понимал все ваши вопросы, но просто не хотел на них отвечать или вообще что-либо делать». Оказывается, желание критически зависит от передней части поясной извилины.
Другим следствием повреждения этой извилины является синдром «чужой руки», при котором рука пациента выполняет действия, которых пациент не желает. Я осматривал женщину с таким расстройством в Оксфорде (вместе с Питером Халлиганом). Левая рука пациентки вытягивалась и хватала предметы без ее намерения, ей приходилось пользоваться правой рукой, чтобы разжать пальцы левой и заставить ее отпустить предмет. (Некоторые аспиранты-мужчины в моей лаборатории называли это расстройство «синдромом третьего свидания».) Синдром «чужой руки» подчеркивает важную роль передней части поясной извилины в проявлении свободной воли, трансформируя философскую проблему в неврологическую про свободу воли см. Мотивация или про свободу воли.
Философы утвердили способ рассмотрения проблем сознания как абстрактных вопросов, таких как переживание первичных ощущений (квалиа) и их взаимоотношения с «я». Психоанализ, хотя и смог выразить проблему в терминах сознательных и бессознательных мозговых процессов, не сформулировал проверяемых на практике теорий и не дал никаких инструментов для их проверки. Моей задачей в этой главе было продемонстрировать, что нейробиология и неврология дают нам новую уникальную возможность разобраться в структуре и функциях «я», не только извне, наблюдая поведение, но также изучая внутреннюю работу мозга17. Наблюдая пациентов, подобных тем, что мы встретили в этой главе, с дефицитом и нарушениями целостности «я», мы можем заглянуть глубоко в понятие «человек»18.
Если мы в этом преуспеем, то впервые в эволюции представитель вида сможет оглянуться на себя и не только понять, откуда в нем взялось все то, что в нем есть, но также выяснить, что или кто является агентом сознания и понимания. Мы не знаем, куда приведет нас это путешествие, но уверен, что это будет величайшее приключение, в которое когда-либо пускалось человечество.
Кстати, -
о самосознании которого будто бы нет у других животных.
Если разобраться каким образом организована система личной адаптивности "высших животных", которая проявляется в виде (само)сознания, то будет ясно, что критерии обладания такой системой вовсе не Джоконда и полеты к звездам, а именно - наличие механизмов, обеспечивающих такую личностную адаптивность, см. Сознание: тестирование, социальная обусловленность, следствия и Интеллект: определение, развитие и деградация.


