


Относится к сборнику статей теори МВАП https://t.me/thinking_cycles
Исследование предпочтений в грудном возрасте показывает, что уже сразу после рождения у ребенка есть вкусовые предпочтения и нет зрительных, но и вкусовые предпочтения в немалой степени зависят от опыта внутриутробного развития.
Плод до рождения проглатывает амниотическую жидкость, которая содержит молекулы, отражающие диету матери (например, ароматические соединения из специй, овощей, кофеина). Это создаёт первичный «вкусовой опыт», влияющий на предпочтения после рождения. Это означает, что если бы мать в этот период питалась с большим потреблением горького, то у ребенка возник бы позитивный рефлекс приемлемости горького. Но рецепторы горького (рецепторы TAS2) – это особые образования, которые наследственно могут связываться с реакциями избегания для уменьшения вероятности потребления токсинов.
Такая реакция – очень древняя и, как и боль, сигнализирующая о поражении организма, может формироваться до любого другого опыта. Так что матери, употребляющие горькую пищу, могут быть менее чувствительны к горечи в детстве, но всё равно демонстрируют осторожность. Дети народов, традиционно употребляющих горькие продукты в высоких концентрациях (например, в Африке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии), демонстрируют отличия в восприятии горечи. Эти различия связаны с культурным опытом, пренатальным и постнатальным обучением, а также, в некоторых случаях, генетической адаптацией. При этом более древние защитные рефлексы на горечь врождённые защитные реакции на горечь (отвращение, выплёвывание) не исчезают полностью, а модулируются через повторный контакт и социальные нормы.
Исследования показывают, что дети, чьи матери регулярно пили морковный сок во время беременности, быстрее принимают морковное пюре в прикорме и демонстрируют меньше отрицательных реакций на его вкус. У таких детей возникают модифицированные условиями реакции. Дети, чьи матери пили кофе во время беременности, быстрее привыкают к горькому вкусу кофеина. Повторный контакт с горькими продуктами постепенно снижает чувствительность к ним. Это явление называется сенсорной адаптацией.
В культурах, где горькие продукты считаются нормой, дети получают положительное подкрепление (похвалы, пример взрослых) при их употреблении.
Таким образом, предпочтения новорожденных основываются не на их субъективных переживаниях, которых еще нет (нет ощущения горечи), а на врожденных реакциях, основанных на рецепции горького.
Ничего подобного нет в случае зрительных рецепторов, которые просто отражают освещенность отдельных точек зрительного поля и принципиально не могут быть связаны на этом уровне с какими-то реакциями.
Так что исследования, которые утверждают наследственную боязнь змей у обезьян – ложны. Так, у обезьян и людей обнаружены нейроны в миндалевидном теле, которые избирательно реагируют на изогнутые формы, напоминающие змей, даже у животных, никогда не видевших змей (исследования Кувахары-Коно и др., 2013). Люди и обезьяны быстрее распознают изображения змей среди фоновых объектов (например, цветов или птиц), даже если змеи замаскированы.
Важно понимать, что миндалевидное тело получает визуальную информацию не только через зрительную кору, но и более прямым путём через таламус (например, через латеральное коленчатое тело и тектогиппокампальный путь). Это позволяет организму быстро реагировать на потенциальные угрозы до полной осознанной обработки образа и использовать врождённые шаблоны распознавания, не требующие обучения.
Это никак не связано с эмоциональной значимостью. Эмоциональная реакция (страх) требует обучения. Ребёнок, никогда не видевший змеи, может испытывать тревогу при виде изогнутой линии, но ассоциация с «опасностью» закрепляется через социальное обучение. В экспериментах с детьми до 3 лет, которые никогда не сталкивались со змеями, наблюдалось повышенное внимание к их изображениям, но не страх. Страх появлялся только после объяснений взрослых («это опасно»).
В случае зрительного восприятия распознаватели зрительных образов формируется уже после рождения и никак не может с чем-то связываться наследственно. В этом случае восприятие, например, зеленого цвета не может быть наследственно связано с предвзятой реакцией и формируется уже на основе личного опыта и авторитарного влияния.
После рождения такие образы формируются в контексте тех или иных состояний организма и соответствующих базовых стилей поведения (пищевое, половое, оборонительное, агрессивное и т.п.). Это придает им начальную позитивную или негативную значимость.
В возрасте, когда завершается критический период развития иерархии зрительных примитивов, они продолжают активироваться в контексте активных стилей поведения и сопутствующая значимость в таком возрасте сохраняется в кадрах семантической памяти. Причем это уже не образы из иерархии зрительных примитивов в теменной ассоциативной коре, а их отражения в лобной коре (абстракции), информация о которых и вызывает субъективно переживания. Условно-рефлекторная часть мозга так и остается без ассоциаций со значимостью, хотя и активация таких образов связана с активными контекстами базовых стилей поведения.
Сознательное переживание цвета или формы (например, «мне нравится зелёный») возникает на уровне префронтальной коры, где информация из сенсорных зон активирует абстрактные образы (fornit.ru/103) в префронтальной коре в эмоциональном контексте и сохраняется в памяти.
На отношение к цвету влияет все то, что при этом формирует определенную значимость, которая и связывается образом цвета. Так, развитие речи совершенно неожиданным образом сказывается на умении ребёнка различать цвета (fornit.ru/5391).
Рассмотрим пример с переживанием образа “зеленый цвет” - как мы воспринимаем зеленый цвет.
Когда мы обращаем осознанное внимание на зеленый цвет, то, в первую очередь, получаем информацию о его значимости для нас в данных условиях: если это зеленый лист, зеленый яд, зеленый сигнал светофора – значимость и возможное взаимодействие будут совершенно разными потому, что объект зеленого цвета имеет самые разное понимание смысла (его значимости) в разных условиях. И мы ощущаем его как целостную картину, которую создают для нас механизмы “внутренних действий” – функции получения и обработки информации и мысли. Получающаяся абстракция модели объекта внимания, ощущаемая нами, не существует в природе ни в каком виде (fornit.ru/1132), она существует только в виде системы ее значимости для нас.
Почему и как мы субъективно воспринимаем зеленое?
Понятно, что зеленый цвет - это не просто сигнал рецепторов сетчатки глаза. Когда мы видим зеленый лист весной, только что распустившийся из почки, мы испытываем совсем не те ощущения, как, заметив ядовито-зеленые пятна на хлебе, значимость для нас – совершенно разная. А если показать просто зеленое, без каких-то других сопутствующих признаков восприятия, то наше ощущение его зависит от того, в каком мы настроении находимся: если в подавленном депрессивном, когда все воспринимается мрачно и плохо, то и зеленое будет навевать неприятные ассоциации, а если, наоборот, в отличном и веселом настроении, то зеленое будет так же приятным и праздничным. Это используется психологами для определения доминирующего эмоционального состояния. Это используется в казино с помощью освещения и музыки, денежных образов и звуков игровых автоматов, провоцирующих делать ставки (fornit.ru/66935).
Когда мы наблюдаем что-то зеленое в текущее мгновение нашего бытия, то в это время возникает немало прогностических картин, навевающих разные мысли (тянущие за собой следующие ассоциации и обновляя информационную картину), кроме того, что сам зеленый объект внимания дополнится определенной значимостью в контексте текущего нашего состояния, в зависимости от окружающих и внутренних условий. Вот это все и определит субъективное переживание, мы оказываемся способны выбирать, что лучше.
Субъективное переживание всегда связано с тем значением, которое соответствует текущим обстоятельствам, что придает определенный смысл воспринимаемому, позволяет ставить желаемую цель и делать волевые усилия по ее достижению. Эта связь при восприятии сохраняется в кадрах семантической памяти (которая всегда сопровождает более позднюю эпизодическую память: fornit.ru/67560), образуя модель понимания образа в разных условиях, что и определяет его переживание впоследствии.
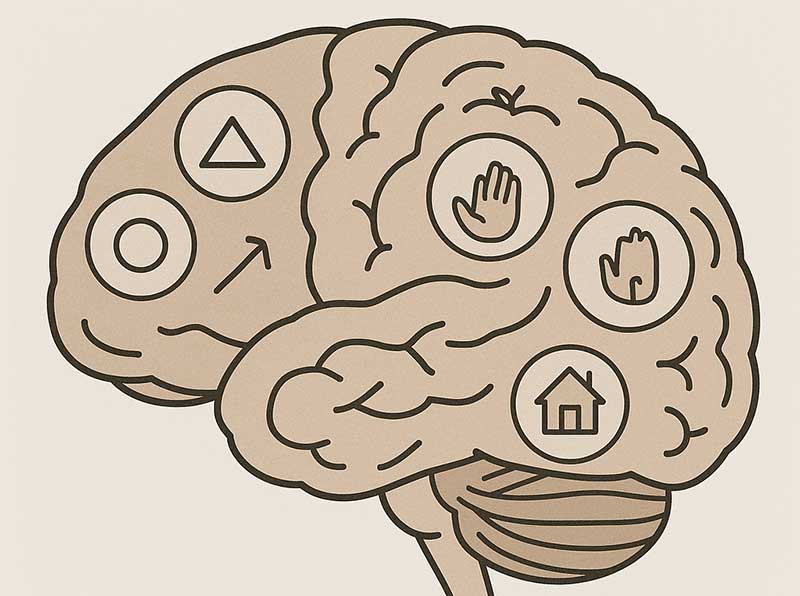
В теменной аcсоциативной зоне располагаются образы, а в префронтальной - их абстракции, которые и сваязываются со значимостями и эта связки запоминается в семантической памяти покадрово.
Nick Fornit
03 May 2025